Скрещение судеб - Мария Белкина Страница 6
Скрещение судеб - Мария Белкина читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
– Я никогда с ними не расставалась, даже в самые трудные времена! Дарить – дарила. Продать – никогда.
Она говорила о них почти как об одушевленных предметах. Разговор происходил на Покровском бульваре, в ее временном жилье; впрочем, мы всегда встречались в ее временном жилье, у нее не было своего жилья. Неуют чужой комнаты, длинной, узкой, с окном в глубине, у окна стол, заваленный, заставленный всем, что ни попадя – и кастрюли, и тарелки с остатками еды, и книги, и учебники Мура, и ее тетради, и эта шкатулка, и в ней ее недорогие драгоценности: кольца, браслеты, грубоватые, с неотделанными камнями, цыганские, как она сама говорила, серебряные, сделанные скорей не ювелирами, а какими-то умельцами. Ни одного золотого украшения у нее или на ней я не видела.
Но все эти украшения не украшали ее, не делали более женственной, они были как-то сами по себе, она – сама по себе, и, пожалуй, кольца только подчеркивали грубость ее рабочих рук, привыкших к стирке белья, чистке картошки, мытью полов, а вовсе, казалось бы, не к перу… Волосы коротко стрижены, не седые еще полностью, но утратившие уже свою первоначальную окраску, «светлошерстая», как она сама о себе говорила, а дочери писала: «С вербочкою светлошерстой светлошерстая сама…»
– Золото моих волос тихо переходит в седость…
– Были – золотисто-каштановые, – говорила Аля.
– Желтая челка, – писал Степун.
– Легкие золотистые волосы с челкой на лбу, – писал Слоним.
Челки не было, очень редко опускала прядь на лоб, а так – подбирала на правую сторону маленькой заколкой-гребешком. Раньше волосы носила прямые, а тут перманент, что ли, был сделан неудачно, или сами истончились с возрастом, стали завиваться, что очень ее простило, делало еще больше как все, ибо все тогда ходили стриженые с сожженными плохим перманентом, только входившим в моду, волосами. Лицо было утомленное, неухоженное, в сухих мелких морщинках. Серо-землистое – «…тот цвет – нецвет – лица, с которым мало вероятия, что уже когда-нибудь расстанусь – до последнего нецвета…»
Чаще всего ее можно было встретить в костюме, юбка – широкая книзу, длинная, «миди», как говорят теперь, блузка и из той же материи, что и юбка, жакет, берет и туфли на низком каблуке.
Очень запоминалась в движении. Как-то я шла по Тверской вверх от Охотного, а на другой стороне из книжного магазина – был такой в полуподвальчике узкий и длинный магазинчик, который часто посещали писатели, кажется, на том самом месте, где теперь возвышается новое здание гостиницы, – вышла Марина Ивановна и, помедлив, направилась к Охотному. Я остановилась и глядела, как она идет. Мы уже не раз гуляли вместе и бывали в кафе «Националь», и она у нас бывала, и мы у нее, но издали, вот так, я ее ни разу не видела. Было что-то летящее в ее походке. Шаг – широкий, легкий, ступала уверенно, по-мужски, но это ее не портило и даже шло к ее невысокой, невесомой фигуре. Твердость и уверенность шага, и это при полной ее близорукости и боязни московских улиц, как и улиц вообще! Говорила, что любит чувствовать под ногой не асфальт, а землю, и не шум слышать городской, а тишину загорода. Дойдя до перекрестка, она остановилась и нерешительно потопталась на месте, потом суетливо метнулась в одну сторону, в другую и, наконец, ринулась через дорогу, должно быть, как в прорубь головой… Но благополучно добралась до противоположного тротуара и, опять уверенно и быстро шагая, скрылась за углом. Я знала, что она до смешного боится машин и в метро одна старается не ездить – боится эскалатора; говорили, что она даже и лифта боится.
В те годы, в сороковом, в сорок первом, мы довольно часто встречались с Мариной Ивановной и у Вильмонтов, и у нас на Конюшках, и у нее на улице Герцена и на Покровском бульваре. Но я не умела и не любила вести дневник, и записи мои грешат хаотичностью, небрежностью, даже даты не всегда проставлены. Понять, почему записан тот, а не другой эпизод, та, а не другая встреча или разговор, – теперь уже невозможно. Приходится просто довольствоваться тем, что было записано, тем, что донесла память, тем, что узнала потом по письмам, попавшим мне в руки, по документам, из разговоров с Алей, с людьми, которые в те годы тоже встречались с Мариной Ивановной, но которых тогда я не знала.
Очень часто задают вопрос, один и тот же: «Какой она была?» Какой! И, понимая всю безнадежность ответа, все же почему-то отвечаешь – трудной! Трудной и разной, с разными разной, с одними и теми же разной. Но не от тех разных – разная, с кем она, а от себя самой разная, какая она. Могла быть простой, обходительной, даже ласково-внимательной, по крайней мере, такой была по отношению ко мне. Но, помню, был случай, когда она прошла, как сквозь стену, и обдала таким высокомерием, что я от обиды чуть было не разревелась, не понимая, что я такое могла сделать, что могла сказать не то, не так…
Это произошло в клубе писателей на Поварской, в старом здании бывшей масонской ложи, где в дубовом зале со скрипучей лестницей на хоры был устроен традиционный книжный базар последней предвоенной весною. Было людно, были писатели, писательские жены, модные в то время актеры, кинозвезды, художники, музыканты. Одни интересовались книгами (немногие, правда), другие забежали просто так: себя показать, на людей посмотреть, с кем-то встретиться, завести деловое знакомство. На ходу, будто невзначай, что всегда проще и удобнее, узнать у редактора, у издателя о судьбе своей рукописи, книги. Было сутолочно, шумно.
Появилась Цветаева. Ее здесь никто не знал, почти никто, стихи ее читали только в списках, да и то любители, поэты. Но кто-то кому-то сказал: «Цветаева, поэт, эмигрантка из Парижа…» И пошел шумок, шепоток. «Поэт» мало кому что говорило, «эмигрантка из Парижа» – было интересно. Правда, уже успел вернуться и даже умереть Куприн. И в зале находился очень в те годы популярный и всеми тогда читаемый автор нашумевшей книги «Пятьдесят лет в строю», бывший блистательный кавалергард, бывший генерал царской армии, бывший царский военный атташе, бывший граф – ныне генерал Красной армии Игнатьев со своей женой, уже совсем немолодой, очень пестро одетой, очень броско накрашенной, подчеркнуто шумливой и не менее интригующей, чем ее супруг, бывшей танцовщицей Натали Трухановой, для которой Дебюсси писал музыку и которая в молодости покорила кого-то из Ротшильдов.
Оба они, и Игнатьев, и его жена, были очень общительными, веселыми, очень, что называется, светскими; и где бы ни появлялась эта супружеская чета, вокруг нее сразу возникал оживленный людской водоворот. Кто-то подошел к Игнатьеву и сказал:
– Вон поэтесса Цветаева, тоже из вашего Парижа!
– Таких в Париже мы не знали… – небрежно бросил граф-генерал и продолжал начатый разговор.
Я обиделась на Игнатьева за Марину Ивановну, но Тарасенков стал убеждать меня, что глупо требовать от графа (мы все так называли его за глаза, да и в глаза тоже, и он принимал это не без удовольствия), чтобы он читал стихи, а тем более еще понимал их.
Марина Ивановна была на другом конце зала, у книжных столов, нервно перебирала книги. Тогда-то я к ней и пробралась сквозь толпу, и она обожгла меня холодом. Я потом пыталась это себе объяснить тем, что ее рассматривали как экспонат в витрине и она не могла не чувствовать этого и, должно быть, была раздражена, и потом до нее все же могла дойти реплика графа… Но когда спустя несколько дней я сказала об этом нашей общей знакомой переводчице Яковлевой, с которой, как мне казалось, Марина Ивановна дружила, то та только махнула рукой, заявив, что мои догадки – ерунда! Просто в зале, в толпе находился молодой поэт, мимолетное увлечение Марины Ивановны. Он не подошел к ней и даже не поклонился, он был с женой. И Марина Ивановна была вне себя от гнева, о чем и поведала Яковлевой.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


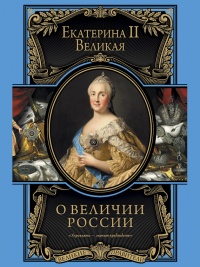
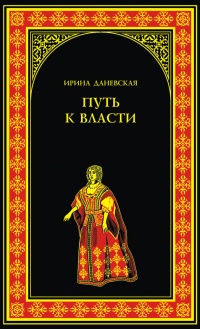

Комментарии