Воскресение в Третьем Риме - Владимир Микушевич Страница 56
Воскресение в Третьем Риме - Владимир Микушевич читать онлайн бесплатно
– И он помогал им унизиться… Сам унижал их… своей мужской силой?
Ни один мускул не дрогнул на лице у тети Маши, но мне показалось, что это стоило ей усилия.
– Опять ты не про то. Говорил же он: «Мне прикоснуться к женщине все равно что к чурбану. У меня нет похоти. И дух бесстрастия, во мне сущий, я передаю им, а они от этого делаются чище, освящаются». А еще он говорил: клин клином вышибают.
– Значит, не согрешишь – не покаешься, а не покаешься – не спасешься, – сказал я и тотчас пожалел об этом. Я нечаянно, а может быть, и не так уж нечаянно задел тетю Машу за живое.
– Не к лицу вам повторять за глупыми людьми эти вполне разумные слова. Просто они грешат и не каются. А кто кается, тот не грешит.
– Как это?
– Повторяю тебе, все очень просто, и потому невероятно трудно. Одно покаяние – не грех, все остальное – грех. Один Бог без греха, но и Бог покаялся в том, что мир сотворил. Если бы хорошим поведением спасались, Христу на крест идти не надо было бы.
– А как же нравственность?
– Нравственность – перевод немецкого «Sittlichkeit». Вам пора бы это знать. По-русски говорят не «нравственность», а «праведность». А праведность – это смирение. Смирению-то он и учил.
– Не пойму только, в чем его-то смирение было, – притворно возмутился я, чтобы вызвать ее на дальнейшую откровенность.
– А в том и было, что мог святым прослыть, а все сделал для того чтобы слыть пьяницей и развратником. Представляешь себе, что было бы, если бы он в скит ушел, схиму принял бы, затворился бы? Вся Россия у ног его была бы, из святых святым считался бы при жизни и после смерти. А он предпочел ругаться миру…
– Как это ругаться?
– Юродивый приходит из пустыни, обличает мир, миру ругается и себя на поругание отдает.
– Так вы его юродивым считаете? Душевнобольным?
– Душевнобольной юродивым не бывает.
– Что ж, юродивый симулирует?
– Называй это так. Только симулируют ради какой-то выгоды, а юродствуют, чтобы пострадать. Я верю, он действительно хотел уйти в глухое место и там спасаться, соблюдая древний устав подвижнической жизни. Ликушка сам это от него слышал, он взял и пошел на смерть и убить себя заставил Ликушку. Никогда ему этого не прощу.
В голосе тети Маши послышались слезы.
– Как заставил? – не мог не спросить я.
– Так и заставил. Он же знал, на что толкает Ликушку, и умереть пожелал от руки любимого красавца. Ликушка просто не мог иначе поступить, и Григорий знал это.
– Знал?
– Конечно знал. И на смерть шел по доброй воле, бедным Ликочкой играл. Ликочка-то к покаянию не способен был, так ведь и Ликочка – человек, за что же он погубил его?
Слезы текли по ее щекам.
– Как же князь Лик ничему от него не научился? Он же к старцу близок был.
– А при дворе все такие были. Неспособные к покаянию. Григорий Ефимович от них царя спасти хотел, за это Григория Ефимовича и убили. И царя убили, как он предсказывал.
– А будь Распутин жив, он царя бы спас?
– Он и спас его. Душу его спас, к мученичеству привел. Царь умер, как Григорий: мученической смертью. Такой смерти Григорий Ефимович всю жизнь искал. Вы вряд ли знаете, mon enfant: на старца покушение было в тот самый день, в тот самый час, когда эрцгерцога Фердинанда убили и мировая война началась. А Григорий все время старался войну прекратить, хотел замирения с Германией. Этому его зелененькие учили…
– Зелененькие?
– Да, Аристарх Иванович и Платон Демьянович.
– А он царя этому учил? Как Ленин? Превратить империалистическую войну в войну гражданскую?
– Гражданская война с того и началась, что его убили.
– Что ж царь-то не покаялся?
– Он покаялся. От престола отрекся. Только отречься надо было раньше, пока Григорий был жив.
– И что тогда?
– А тогда было бы народное царство. О таком царстве и Николай Александрович думал. Для того и мужика к себе приблизил. Народное царство: православный царь, крестьянство, и настоящая, исконная, древняя знать, а не это непрочное, малородовое дворянство, как Леонтьев сказал. Николай Александрович всегда такого дворянства недолюбливал. Вот они все на мужике и выместили. Но Николай Александрович народного царства провозгласить не мог.
– Почему не мог?
– Он мог только от престола отречься вовремя. И тогда явился бы Царь Истинный.
– А кто Царь Истинный?
– Этого тебе никто не скажет, кроме него.
– Кроме кого? – зачем-то спросил я, хотя отлично понял, кого она имеет в виду. И тетя Маша поняла, что я понял.
– Подожди! Вот шестнадцатого декабря, то бишь двадцать девятого он возьмет да и скажет, если нужным сочтет.
Нечего и говорить, что юбилейный доклад Чудотворцева действительно был назначен на 29 декабря, в четыре часа дня. Это подтвердилось, пока я вел с тетей Машей наши вечерние разговоры, за которые прошу извинения у читателя, если он сочтет мою запись чересчур подробной, но я не сумел без нее обойтись, тем более что писал по памяти.
Уроки хореографии у Аделаиды утратили между тем свою интимную задушевность. Обе подруги тревожно ждали, не будут ли сидеть за чайным столом Распутин с Чудотворцевым к тому времени, когда они выйдут из девичьей горенки. Не то чтобы чаепития под пальмами участились. Пожалуй, Распутин появлялся даже реже; по-видимому, сама Аделаида не знала, приедет он или нет, но настороженное напряжение, в котором подруги не решались признаться одна другой, тяготило обеих. Вероятно, то было предчувствие. А Распутин, сидя за чайным столом, не говорил ни о чем тревожном. Напротив, он рассуждал исключительно об искусстве, прибегая к своим особенным выражениям, непохожим на эстетический жаргон тогдашних салонов. Маша с недоумением слушала, как Распутин говорил за чаем: «Танец, принеси еще клюковки!» или «Танец! Вареньица бы нам еще малинового!». (Распутин вообще предпочитал конфетам разные варенья, в особенности малиновое и царское варенье из крыжовника; любил также клюкву, протертую с медом, ел мятные пряники, а к пирожным не притрагивался.) Маше запомнился хищный и одновременно нежный жест Распутина, разбивающего молотком кокосовый орех, как прокопченную заморским колдуном голову лесного карлика, поросшую редкими волосенками. Маша сперва подумала, что Григорий Ефимович фамильярничает с хозяйкой, называя ее «Танец», но оказалось, что обращается он все-таки к расторопной горничной: миловидную монголку звали Таней. А Распутин, поглядывая то на Аделаиду, то на Машу, повторял на разные лады: «Танец служит, пляс верховодит». Распутин убеждал Аделаиду в том, в чем ее и убеждать не надо было: ее представление или действо (слова «балет» Распутин не употреблял) без Маши состояться не может:
– Манок – твой двойник, Адушка-Лидушка! Ты танцуешь, Манок пляшет. Это Марфе-плоти выучка требуется, Мария, девица-душа, не плясать не может. Надо ее скорее Орляку показать.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




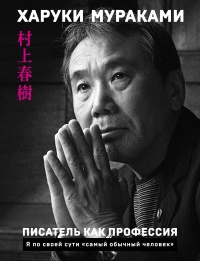
Комментарии