Николай I и его эпоха - Михаил Гершензон Страница 43
Николай I и его эпоха - Михаил Гершензон читать онлайн бесплатно
Личный состав чиновников должен быть избран из людей ненужцающихся, которые могли бы посвятить себя служению общественному делу. Увеличение издержек на содержание двора повлечет за собой большие расходы и поставит правительство в затруднительное положение. Надо создать источник умножения доходов!.. Увеличить налоги — это средство, к которому не следует, да и не пожелают обращаться; поэтому придется наверстывать экономию в расходах. Уменьшение военных сил, с одной стороны, и повышение ценности бумажных денег — с другой, представляются двумя необходимыми мерами для достижения предположенной цели, хотя привести в исполнение эти меры будет нелегко. Увольнение во временные отпуска части нижних чинов, конечно, сделает экономию в бюджете расходов по содержанию армии, но что делать с массой офицеров, которые останутся без всякого дела? Определить их на гражданские должности? Но многие из них вовсе не подготовлены к подобного рода деятельности. Между тем весьма важно дать им определенные занятия, чтобы не создать толпу тунеядцев, эту общественную заразу во всякое время, а тем более при настоящих обстоятельствах, когда всякий рассуждает, когда все — даже воспитанники учебных заведений — считают себя призванными обсуждать общественные дела…»
Примите уверения и проч. Фок.
Русская старина, 1881, сентябрь.
1
Секретно
26 марта 1848 г., № 8. Москва
Его превосходительству Леонтию Васильевичу Дубельту
Впечатление, произведенное Манифестом, возвестившим о смутах на западе Европы, были слезы восторженных русских чувств. Я приехал в Дворянский клуб в ту минуту, когда шел вопрос, каждого тут бывшего, к приезжающему знакомому: «Читатели ли?» — «И у нас есть Манифест (ибо слышали предварительно о нем). Да Что же вы опоздали, вот один из членов прекрасно придумал, как столпились в газетной, что прочитал вслух». Слыша это, сильно билось во мне приверженное сердце, я слезлив в радости, а совладел с моими глазами, чтоб с осторожной зоркостью видеть глаза других, и у многих видел их влажными. Свидетельствуюсь Богом всемогущим, что лесть никогда не управляла ни языком, ни пером моим; покойный отец мой удалил от души моей это зло; продолжаю писать, как истинно видел, как слышал; я слышал, и весьма заметно было, что голос дребезжал в отзывах о Франции, Австрии и Пруссии, Но когда речь возвращалась к Манифесту, речи становились твердые; твердость как бы почерпалась из самого Манифеста, он так всем был по сердцу, как будто каждый участвовал в написании его. Тут послышался от кого-то вопрос: «Кто бы писал его?» Этот вопрос издавна существует при сильных впечатлениях от того, что изложениями получили известность в 1812 году Шишков и прочие. Я был на этот раз превращен в молчание, в слух, сердце мое жаждало одного ответа и услышало желаемый ответ: «Кому писать это? Без сомнения Сам писал». Таково было виденное мною впечатление, где, выражусь просто, каждый рос душой, чувствовал, что он русский, что он сын Воззвавшего к сердцам русских, — и видно было, что для русского сердца не бывает иных воззваний, кроме того, чье сердце помазавшего Его. Истинно этот Манифест был утверждающим, освящающим помазанием сердца.
Так истинно, так я видел, я слышал.
Не могу при том скрыть, переливая в сердце мое каждое слово Вашего драгоценного доверия и «чтоб я писал со всей откровенностью», чтоб не доложить, что после послышался при вопросах: кто бы писал? — одного какого-то отзыв: «Чай, Киселев писал». Тон этого отзыва, кажется, заключал в себе ясную иронию на этого сановника. Без сомнения, до Вас доходило, что дворянство не любит его, потом слышны были те же отзывы об Манифесте уже не в клубе и следующие слова о Государе: «Да приласкай он дворянство, так, ей-богу, все двинется, куда только прикажет».
В среднем сословии и черни поняли так, но лучше употреблю и выражение их: «Вот союзные державы от нас отказались, и француз идет на нас войной» — и поэтому некоторые из дворян, желающие умничать (но все с благонамеренными сердцами), поумничали в суждениях, что Манифест прекрасный, но что будто, на что было писать его, на что употребить было слово, что дерзость угрожает и России, вот это слово угрожает немногим не понравилось, но и это самое умничество о выражении, не выражает ли только пустое умничество, а, однако ж, показывает русское сердце если не по уму, то в чувствах.
Я считаю, что лучшие агенты для чиновника — это добрые дела, коих он был исполнителем от благодетельного начальства, — благодарность редка, но неподкупна, когда сам исполнитель неподкупен, вот из таких ходит ко мне один старик хлебник (но не мой) Сидор, который и к Вам хаживал у него большая семья, большая артель; истинно случилось же так, что когда я ему объяснил, в чем дело, и он мне сказал: «Ну, барин, спасибо, ведь я почти во все трактиры ставлю хлеб, так если будут врать, что все на нас войной идут, я ведь не назову тебя, а скажу, что они попусту тревожатся и войны никакой у нас нет», — случилось же так, что на другой же день вышла газета со статьей из Санкт-Петербурга, объясняющей точно так толки, и этой статьей для народа вообще довольны.
Ни о дерзких, ни о ропотных суждениях здесь нет слухов, вырываются в гостиных выражения: не было бы чего? Но слава Богу, не видно никакого основания к опасениям утешительно то, что не к русским клонятся предположения возможностей, а все к полякам. Дай Бог, чтоб ничего и не было основательного для опасений, но какие слухи даже из вздорных будут позначительнее, не премину с неограниченной искренностью доложить.
Здесь много говорили и в гостиных, что граф Алексей Федорович [Орлов, тогда шеф жандармов и начальник III отделения] послан в Вену, и так утвердительно говорили, что по тамошним смутам сердце боялось, пусть хоть и теперь утверждают это, но Ваше милостивое письмо, из которого видно, что граф в Санкт-Петербурге, втайне мною хранимое, успокоило приверженного.
Секретно.
30-го марта 1848 года, Москва
По приказании Вашем от 23-го марта дозволив мне писать неофициальным письмом, Вы как будто милостиво угадали, что у меня около глаза сильный ревматизм, такой, что сегодня мне поставили шпанскую мушку к затылку и что я должен даже докладывать Вам, диктуя моему писарю, в верности и глубокой скромности коего не имею причин сомневаться.
И пишу к Вам с неограниченной искренностью, как к отцу родному, прося Вас нисколько не думать о моей простуде и не останавливаться удостаивать меня Вашими приказаниями. И с больным глазом Господь не лишает меня света душевного, и в ревматизме я пламенно усерден в верноподданнической службе и убеждаю Вас при поставленной мне шпанской мушке на затылке, никак не брить мне затылка от Вашего драгоценного мне доверия. Третьего дня принесли мне повестку о секретном пакете, это было воскресенье, и по правилам почту получить было нельзя — получил вчера, а сегодня доношу Вам в ответ — кажется, нельзя поспешнее.
Коротенькое, но заключающее в себе важность, приказание Ваше я прочитал не раз и затаив от всех в душе моей тайну вопроса, хотя и был тотчас готов ответствовать Вам: что касательно политических в Европе обстоятельств, здесь, благодарение Господу, в народном духе ничего дурного не видно и не слышно; но желал проверить изыскиваемые мною основательные сведения и поехал как будто пить чай к здешнему голове, богачу и владельцу огромной фабрики Лепешкину. Я не балую купцов частыми посещениями за их визиты, и особенно Лепешкин тем более рад моим приездам и, когда нет никого, беседует со мной довольно искренно.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
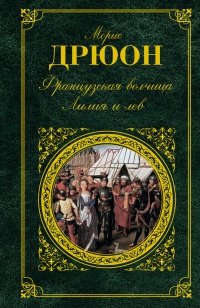


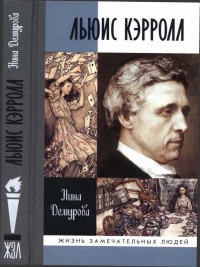
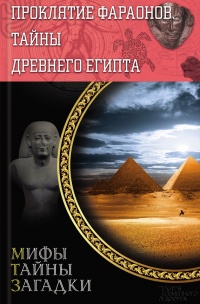
Комментарии