Книга о русских людях - Максим Горький Страница 40
Книга о русских людях - Максим Горький читать онлайн бесплатно
Он прижал губами жиденькие выцветшие усы, прищурил желтые белки скучных глаз и дрожащей рукою стал бережно наливать рюмку водки. В двадцать лет он был, вероятно, неуклюж, костляв, серые вихрастые волосы его были, видимо, рыжими, мутные глаза — голубыми. И — множество веснушек на лице. Теперь его дряблые щеки густо исчерчены сложным узором красных жилок, сизый нос пьяницы печально опускался на усы. Водка уже не возбуждала его. Он бормотал натужно и как бы сквозь сон.
— Почувствовал я себя красавцем, значительной фигурой. Еще бы: имею способности редкого качества! Душа моя запела жаворонком. Начал жестоко писать, ночи напролет писал, слова с пера ручьем текут. Радость! Замечаю, что горожане стали смотреть на меня особенно внимательно. Ага, думаю…
— Малашин пригласил меня в гости к акцизному, а у того — дочь, бойкая такая барышня. Ну и еще разная молодежь. Интересуются мною, спрашивают: «Пишете? Пожалуйста — чаю! Внакладку!»
— «Ого, думаю, внакладку даже?!» Размешивал чай ложечкой, хлебнул — что такое? Солоно. Так солоно, что даже горько. До отвращения. Все-таки пью, по скромности моей. И вдруг все, хором, захохотали, а Малашин просмеялся и говорит: «Как же это? Писатель должен уметь различать все вещи, а ты соль от сахара не можешь отличить, как же это?»
— Я сконфузился, увял: эх, думаю… «Это, говорю, шутка, конечно…»
— Они еще больше хохочут. Потом стали уговаривать меня, чтоб я стихи читал, — я и стихи сочинять пытался. Малашин знал это. Уговаривают: «Поэты в гостях всегда стихи читают, и вы обязаны».
— Но тут мордастый сын головы вмешался; сказал: «Хорошие стихи пишутся только военными».
— Барышни стали доказывать ему, что он ошибается, а я незаметно ушел. И с этого вечера всем городом начали меня травить, как чужую собаку. В первое же воскресенье встретил я дьякона, идет с удочками, попирая землю, как чудовищный слон. «Стой, — кричит. — Пишешь, дурак? Я, говорит, три года в оперу готовился и вообще не тебе чета, а ты — кто? Муха ты! Такие, говорит, мухи только засиживают зеркало литературы, сволочь…» И так изругал меня, что мне даже обидно стало. «За что?» — думаю.
— Через некоторое время тетка моя — я сирота, у тетки жил — «Что это говорят про тебя, будто пишешь ты? Бросил бы, тебе жениться пора…»
— Пытался я объяснить ей, что в деле этом ничего зазорного нет, что даже графы и князья пишут и вообще это занятие чистое, дворянское; но она заплакала; взывает: «Господи, и кто, злодей, научил тебя этому?»
— А Малашин, встречая меня на улице, орет: «Здравствуй, без четверти граф Толстой!» Сочинил глупенькую песенку, и, при виде меня, молодежь города зудит:
— «Эх, думаю, попал жук под копыто!» Так дразнят — на улицу показаться нельзя. Особенно — дьякон, освирепел, того и жди, отколотит. «Я, рычит, три года, а ты, негодяй…»
— Бывало, ночами, сижу я над рекой, соображаю: «Что такое? За что?»
— Над рекой уединенное место было, мысок, и на нем ольховая роща, так я заберусь туда и, глядя на реку, чувствую, будто вода эта темная, омыв город, сквозь мою душу течет, оставляя в ней осадок мутный и горький.
— Была у меня знакомая девушка, золотошвейка, ухаживал я за ней с чистым сердцем, и казалось, что я тоже приятен для нее. Но и она стала кукситься, осторожно спрашивает меня: «Правда, что будто вы что-то написали в газеты про нас, про город?» — «Кто вам сказал?» Поежилась она и рассказала: «Писательство ваше у Малашина в руках, и он его всем читает, а над вами смеются и даже хотят бить, за то, что вы графу Толстому предались. Зачем вы Малашину дали писательство это?»
— Подо мной земля колыхнулась: у-ю-юй, думаю. Там у меня и про акцизного, и про дьякона, про всех, без радости, говорится. Конечно, несчастное писание мое я Малашину не давал, он сам взял рукопись на почте. Тут любезная моя еще подлила мне горечи: «За то, что я гуляю с вами, подруги смеются надо мной, — так что я уж не знаю, как мне быть». Эх, думаю я.
— Иду к Малашину. «Отдай рукопись, пожалуйста!» — «Ну, зачем она тебе, говорит, если ее забраковали!»
— Не отдал. Нравился мне этот человек; замечаю я, что как ненужные вещи приятнее полезных, так же иногда приятен нам и вредный человек. И еще пример: нет битюга дороже скаковой лошади, хотя люди живут трудом, а не скачками.
— Наступили святки, пригласил меня Малашин рядиться, нарядил чертом, в полушубок шерстью вверх, надели мне на голову козлиные рога, на лицо — маску. Н-ну, плясали мы и все прочее, вспотел я и чувствую: нестерпимо щиплет мне лицо. Пошел домой, а меня на улице обогнали трое ряженых и кричат: «Ох, черт! Бей его!»
— Я — бежать. Конечно — догнали. Избили меня не сильно, но лицо горит — хоть кричи! Что такое? Утром подполз я к зеркалу, а рожа у меня неестественно багровая, нос раздуло, глаза опухли, слезятся. Ну, думаю, изуродовали! Они маску-то изнутри смазали чем-то едучим, и когда вспотел я, мазь эта начала мне кожу рвать. Недель пять лечился, думал — глаза лопнут. Однако — ничего, прошло.
— Тогда я догадался: нельзя мне оставаться в городе. И тихонько ушел. Гуляю с той поры вот уже тринадцать лет.
Он зевнул и устало прикрыл глаза. Он казался человеком лет пятидесяти.
— Чем вы живете? — спросил я.
— Конюх, служу на бегах. Даю материал о лошадях репортеру одному.
И, улыбаясь медленно, доброй улыбкой, он сказал:
— До чего благородные животные лошади! Сравнить не с чем лошадей. Только вот одна ногу разбила мне…
Вздохнув, он тихо добавил, точно строчку стиха прочитал:
— Самая любимая моя…
В массе народопоклонников, которых я встретил на путях моей жизни, особенно памятен мне ветеринар Милий Самойлович Петренко.
Высокий, сутулый. Длинное, до пят, узкое пальто из парусины неестественно увеличивает его рост. Бритое лицо украшено пышными усами, концы их картинно спускаются на грудь. Из-под густых бровей непреклонно и сурово сверкают светлые глаза. Выпуклый лоб глубоко распахан морщинами, на голове буйно торчат жесткие клочья сивых волос, они прикрыты выцветшей широкополой шляпой, шляпа сдвинута на затылок, и это придает старику задорный, боевой вид.
Я познакомился с ним в 903-м году в Седлеце, у М. А. Ромася, и Петренко пожелал ознакомить меня с «работой его жизни». Холостяк, он снимал комнату в деревянном грязненьком домике извозчика-еврея; против окон этой печальной комнаты внушительно возвышались красные солиднейшие стены седлецкой тюрьмы.
Размахивая руками, длинными, как весла, ветеринар усадил меня к столу и зарычал глубоким басом, произнося каждое слово отдельно:
— Сура. Пива. Две.
Бросил шляпу в угол, на койку, достал из маленького желтого комода толстую тетрадь в клеенке и, гулко крякнув, начал:
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

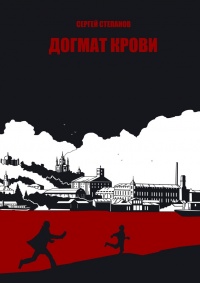

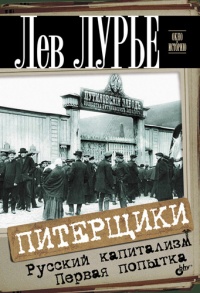
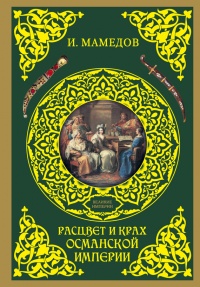
Комментарии