Великий стол - Дмитрий Балашов Страница 39
Великий стол - Дмитрий Балашов читать онлайн бесплатно
Иван медленно покачал головой, привлек крестника и огладил ему вихры. Вот и этот не может решить, пото и мучается, и не спит, когда уже все отрочата давно в постелях!
– Почто не уехал, баешь? А кто тогда с ним останется?
Иван достал красный камчатый плат, отер чело крестника и, слегка отстранив, сказал:
– Беги спать, поздно уже! Помолись на ночь! – И долго, задумчиво смотрел вслед Алферию, пока не затих топот детских шагов в переходах.
В полночь Алферий, догадав по дыханию дядьки, что тот уснул, сполз с постели и прокрался в иконный покой. В лампадном полумраке опустился коленями на холодный пол. Осенив себя крестным знамением, начал молиться. Молился он необычно, мешая священные слова с теми, что рвались из сердца, умолкая и вновь начиная горячо и сбивчиво шептать, повторяя: «Господи!» – и вперяя отревоженные родниковые глаза в колеблющуюся темноту с едва проглядывающими очесами иконных ликов. И, молясь, как-то отходил, отстранялся сердцем от всего мирского, что привычно окружало его доднесь: и от того, паркого, животно-теплого, чем был материн круглый живот и эти ее отуманенные глаза, без мысли, с одним только нерассудным жалением, и от игр сверстников, порою злых и жестоких, – и тут же судил себя за резвость, за отлучки во время занятий с дьяконом и лень в постижении трудной греческой грамоты, и давал высокие обеты Богу в тихом восторге молитвенного умиления… пока проснувшийся дядька чуть не силою увел полуодетого, застывшего на холоде боярчонка назад, в постель.
Сколько таких вот детских молитв унеслось в небеса, оставшись благим порывом, без дальнейших дел и свершений, сколько растаяло, не оставив даже следа! И кто бы мог сказать тогда, что этой молитве и молитвеннику этому суждена иная судьба, что не впусте давал он обеты Богу своему? Будет он отныне сторониться игр сверстников. Будет задумчив и тих. Будет одолевать себя и в ученьи и в жизни, даже некоторый страх внушая родителем. И бесповоротно изберет он грядущую судьбу свою. Ибо он, среди прочих званых, окажется избранным, немногим из многих, и даже мало сказать, немногим – одним из тех, что рождаются порой раз в столетие и служат гордостью, украсою и надеждой родимой земли.
И вот перед ними, среди виноградных ветвей, в прокаленном солнцем трепещущем воздухе, на ярко-синем сияющем небе показались башни Цареграда. Русичи столпились на холме, удерживая коней. Нет, то была не сказка, не марево знойного дня – вечный град Константина, град патриархов и кесарей, хранитель святынь, оплот и прибежище православия, в терновом венце своих стен раскинулся впереди. И они молчали, потрясенные. И так же молча, гуськом, стали спускаться с холма. Пот и пыль, усталость и жар дороги претворились теперь в томительно-сладкий искус предвкушения. Уже не рассказы бывалых и не книжная молвь – свои очеса узрят наконец предивное чудо! И уже не трогали взора лохмотья нищеты, ни грязь придорожных хижин, лишь чудо, поднявшееся на холмах, то пропадающее, то возникающее вновь все ближе и ближе…
В город, передохнув, умывшись с дороги и оставив коней на русском подворье, входили пешком сквозь Золотые ворота. Их вел патриарший клирик, посланный нарочито, со свитою из монахов и мирян. Грамоты волынского князя Юрия Львовича, обогнавшие путников, делали свои дело. Да и не столь уж вседневное событие – утверждение нового митрополита русского!
В толпе русичей выдавался статью и светлой открытостью лица высокий человек, просторный в плечах и сухощавый, с пытливым ясным взором и тревожно-чуткими перстами рук, сжимавших сейчас долгий дорожный посох, – изограф, книгочий, ритор и иконописец, игумен Ратского монастыря на Волыни, именем Петр, коего князь Юрий Львович и бояре, а также синклит епископов Галича и Волыни прислали сюда ставиться в митрополиты всея Руси. О том были грамоты, с пристойными случаю поминками, патриарху Афанасию и кесарю Андронику Палеологу.
Ратский игумен, на которого столь нежданно пал высокий выбор, никогда прежде не помышлял о вышней власти. Он был доволен саном игумена и тем почетом, коего достиг святостью жизни, непрестанными трудами на благо родного монастыря, проповедями, слушать которые сходилось население от ближних и дальних весей, и, паче того, талантом иконного письма, намного превосходящим умение многих и многих иных изографов. Получив весть от самого князя Юрия Львовича, он несколько даже растерялся. Впрочем, вся братия хором принялась уговаривать Петра согласиться на почетное предложение. Его призвали ко двору, паки уговаривали. Он и поныне, озирая святыни Цареграда, не может забыть холодных глаз и вислых усов волынского князя, чаявшего, как тайно поведали Петру, «галицкую епископию в митрополию претворити» и тем оторвать Галич с Волынью от далекой Суздальской земли, порвать с бывшим шурином Михайлой Тверским и… – и кто знает? – не начать ли после того сближаться с польскими католиками, кои уже и ныне что-то уж больно настойчиво обивают пороги княжеского дворца… Все это узнал ратский игумен, и все это повергло его в скорбь. Когда он бессонными ночами писал лик любимой им с трепетною верой Матери Божьей, когда он, простирая свои чуткие персты, персты художника, говорил с амвона, он знал, ведал, что нет иной истины, кроме заповеданной древними отцами церкви, и нет иной правды, кроме правды освященного православия, сущего в Цареграде и века назад воссиявшего в его родной Русской земле. И мысль, что усталый от жизни, капризно-надменный волынский князь (его князь!) готов изменить свету веры истинной, готов склонить слух к прелести латинской, была тяжка ратскому игумену до боли в груди. Он никому ничего не сказал. Он не спрашивал, почему выбор пал именно на него, каковыми добродетелями заслужил он столь высокое назначение? И добродетелями ли или своей кажущейся простотою? Кая тайная игра каких тайных сил привела его ныне на землю Цареграда? Он не знал и не ведал того. И ведать не хотел. И того, что не один Юрий Львович, но и византийские Палеологи мнят поладить как-то с католическим Римом, мнят найти у папского престола защиту от неверных, и потому, быть может, столь готовно откликаются на пожелание Юрия Львовича: поставить своего митрополита – и этого тоже не знал и не хотел знать ратский игумен Петр. И те, кто посылал его, знали, что прославленный святостью жизни игумен-художник не ведает о тайных замыслах сильных мира сего. Но и другого не знали пославшие Петра на поставление: у этого кроткого нравом и бесхитростного с виду человека есть в душе клад некий и мысль горняя, словесно непостижимая, но твердостью превосходящая шемшир, или алмаз, камень драгий, прозрачный, яко слеза, и крепчайший всякой иной твердости, доступной земному оку и земному касанию человеческому. И что клад этот – любовь к Богородице, а горняя мысль в его душе – православная вера.
Да, игумен Ратского монастыря Петр понимал, что за крест принимает он на рамена своя, и нимало не обманывался. Сверхчувствием избранных натур постигал он то, что было скрыто от него завесою тайны. Холодные глаза на обрюзгшем, с нездоровою желтизною лице Юрия Львовича сказали ему больше, чем шепоты лукавствующих доброхотов. Княгиня-полячка, окруженная пришлыми католиками, заставила Петра напряженно молить Господа о душе князя, господина своего. Он ничего толком не ведал о делах и замыслах сильных мира. Но он был художник и – видел. А видел он все. И увидев, принял крест. Не власть и не славу, но крест, когда-то несомый самим Господом. И был намерен нести этот крест до конца, паки и паки не уставая. И вот этого в нем не учуяли пославшие его, ибо то были не замыслы (их можно раскрыть и разрушить), не намерения (их можно изменить и забыть), не силы даже (уступают и сильные), но сама душа, дух. То, что бессмертно и не подвластно земному.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
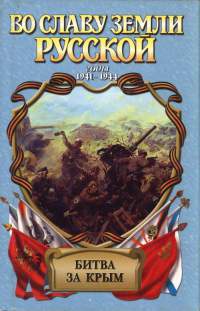


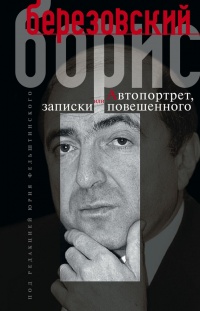

Комментарии