"Шпионы Ватикана..." О трагическом пути священников-миссионеров. Воспоминания Пьетро Леони, обзор материалов следственных дел - Пьетро Леони Страница 37
"Шпионы Ватикана..." О трагическом пути священников-миссионеров. Воспоминания Пьетро Леони, обзор материалов следственных дел - Пьетро Леони читать онлайн бесплатно
После трех или четырех дней одиночного бокса меня перевели в обычную камеру на пятом этаже, в отделение, которое заключенные называли «корабль»: камеры здесь располагались вокруг лестницы с проемом в центре. В камере уже находился заключенный — молодой белорус. Это был смышленый малый, добродушный и религиозный.
Однако первой моей мыслью было подозрение: «Вот, меня поместили со стукачом, чтобы выведать мои тайны. Буду осторожным». Позже он признался мне, что и он при виде меня подумал: «Стукач, одетый попом, хочет моей „исповеди“… Осторожно!» Несмотря на взаимное недоверие, я от души предложил ему, а он охотно принял, как помнится, две пайки сырого черного хлеба — я не смог доесть его в те первые дни заключения. Поделился я и кусочком сала, который хранил с Одессы. Таким образом, он, православный, на славу отпраздновал второй или третий день Пасхи. У меня еще оставались запасы еды с воли, и дневная порция хлеба в 450 грамм казалась мне большой, а вот для него она была ничто: он уже многие месяцы вынужденно постился, к тому же был молод и высок.
Жизнь здесь в смысле условий была чуть веселее: окно, хотя и в «наморднике», пропускало немного воздуха и света и даже позволяло видеть полоску неба, а иногда и солнечный луч; библиотекарь иногда давал нам книги; можно было говорить шепотом; у каждого — койка с матрасом, одеяло и подушка. И, наконец, ежедневная прогулка на крыше, минут пятнадцать-двадцать.
Но не думайте, что мы любовались Москвой с этой крыши почти рядом с Кремлем. Мы ничего не видели, кроме неба; все было обнесено внутренней стеной, построенной так, чтобы не дать лубянским узникам «общаться» со свободным миром, радоваться открывающемуся виду или… в отчаянии измерить расстояние от крыши до земли.
О первом сокамернике я мало что помню. Был он из тех, что выросли на территории, принадлежащей Польше, и стремились к освобождению Родины от нее и от коммунизма; принадлежал к молодежной патриотической организации. И вина его была та же, что и у миллионов белорусов, украинцев и прочих: «измена Родине» (подразумевалось «советской»).
В первые дни мы почти не касались политики: говорили о религии, о книгах, о свободной жизни и о нашей нынешней. От него я впервые узнал блатные слова и неписаные тюремные законы: он сказал, что наша тюрьма относится к Комиссариату внутренних дел и что звон, который мы слышим, это кремлевские куранты; сказал также, что тюремщики здесь называются «вертухаи», а наше помещение — «корабль». Он научил меня обращаться с парашей, основным моим неудобством, особенно поначалу. Малую нужду справляли в уборной дважды в день, в спешке и со всеми, а в остальное время пользовались парашей, которую потом несли в уборную.
Со временем мы заговорили откровеннее о политике. Но что до «сообщников», тут мы были предельно сдержанны.
Только мы стали откровеннее, как нас перевели на третий этаж, в камеру побольше, и дали третьего — пожилого русского; словно в кастрюлю с кипятком добавили холодной воды. Вспоминается советская поговорка: «Из троих один — всегда стукач». Однако очень скоро мы сблизились, разговор сделался более свободным. Позже мы говорили еще свободнее: убедились с течением следствия, что как ни веди себя, приговор обеспечен; разве что из осторожности старались не называть в камере имен и обстоятельств, которые скрывали от следователя.
Впрочем, неограниченную свободу слова в СССР имели только приговоренные к смерти или к двадцати пяти годам каторги: такой приговор означал, что им больше нечего терять. Что до меня, то с начала тюремных мытарств я перестал бояться доносчиков и всегда, если не опасался скомпрометировать ближнего или Церковь, свободно критиковал коммунизм со всей его нелогичностью и варварством. Мешали мне лишь ограничения проповеди Евангелия; но «для слова Божия нет уз», — повторял я апостола Павла.
Наша камера уплотнялась. Наконец нам стало тесно. Менялись и люди. Однажды к нам поместили на несколько дней румынского немца, католика: он был вконец подавлен случившимся. Я попытался немного утешить его, а вот один москвич, человек сомнительный, стал учить его уму-разуму, стараясь довести до отчаяния и уверяя, что единственный выход — откровенность со следователем. Я закипел и кинулся на москвича, назвал его дьяволом-искусителем, сказал, что он в сговоре с врагами человечества, и заставил замолчать.
В остальное время в нашей лубянской камере царило согласие. Мои рассказы о перебранках со следователем встречались с удовлетворением, особенно довольны были русские: выросли они в атмосфере страха и привыкли бояться советской власти. Их радовал смельчак, говорящий тиранам правду; это мое говорение правды вдохновляло даже самых слабых. Много раз сокамерники благодарили меня за моральную поддержку; не понимали они, что в действительности поддерживал их не я своими жалкими силами, а благодать Божия во мне.
Как проходил день на Лубянке? В непрерывном угнетении плоти. Здание Лубянки, если посмотреть со стороны, не внушает ужаса; когда-то здесь была гостиница, так что здание и сейчас не выглядит тюрьмой. Окна в основном большие и на обычной высоте; полы набраны из деревянных квадратов, светлые стены. Конечно, окна переделаны, было бы слишком гуманно оставлять их в прежнем виде: теперь на них крепкие решетки и в придачу «намордники», через которые виден лишь краешек неба.
Но к этому можно притерпеться — убивает другое: распорядок дня и обращение с заключенными, мучительное присутствие надзирателей. С утра до вечера лязгают ключи о тяжелые железные двери, открывается дверной глазок, раздаются крики охраны — все это изводит и выматывает душу. В пять утра побудка. Громкий лязг ключей и предупреждение: «Приготовиться к оправке». Через несколько минут дверь открывается: двое хватают парашу, и мы строем, раз-два, молча отправляемся в уборную и к умывальникам. В первые месяцы не было ни мыла, ни бумаги, большое везение, если давали чем продезинфицировать парашу.
И вот мы снова в камере. Кто-то молится, кто-то болтает, кто-то мечтает о скорой раздаче хлеба и сахара — об этом думается невольно, ибо это самый волнующий момент дня. Кто-то соображает, какую камеру успели облагодетельствовать раздатчики… Наконец они у нашей двери: 450 грамм хлеба и 9 грамм сахара на человека. Хлеб уже нарезан на порции, сахар надо делить — и это благо, потому что какое-никакое развлечение. Один из заключенных с аптекарской точностью делит сахар на порции по количеству людей в камере, после чего порции распределяются, чаще всего — по жребию. Самый молодой заключенный становится лицом к стене, другой указывает порцию наугад и спрашивает: «Эта кому?» В ответ звучит имя, названный берет свою долю; и так до предпоследнего, а иногда, для смеха, и до последнего из оставшихся.
После раздачи еды приносят так называемый «чай», то есть практически пустой кипяток — единственное, чего дают вволю. Надо только правильно распорядиться сахаром, потому что днем опять принесут чай, а его хорошо пить, только если оставить к нему кусочек сахара. Все это надежный способ борьбы с чревоугодием: многим не удавалось распределить сахар на весь день, но это было ничто по сравнению с делением пайки хлеба. Кто съедал ее утром (а некоторые съедали всю пайку разом), тот вынужден был маяться остаток дня, потому что на обед давали только миску супа «волга-волга» (несколько листков капусты и чуточку разваренной крупы: овсяной или перловой) с 10–12 граммами постного мяса, которое исчезло уже к середине июня. Вечером — 150–200 грамм каши, пшенной или перловой, по водянистости похожей на суп.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


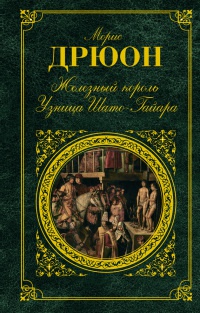

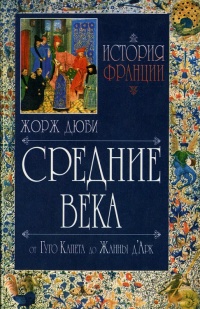
Комментарии