Виктор Шкловский - Владимир Березин Страница 33
Виктор Шкловский - Владимир Березин читать онлайн бесплатно
Таким, добродушным и сохранившим невозмутимость, и нарисовал художник Анненков английского гостя. Черты его краснорожей головы угловаты, а во рту дымится большая сигара, на бантике которой неразличимый герб.
Вернувшись домой, Уэллс написал свою знаменитую книгу «Россия во мгле», где чуть не первые слова: «Основное наше впечатление от положения в России — это картина колоссального непоправимого краха… Нигде в России эта катастрофа не видна с такой беспощадной ясностью, как в Петрограде».
Надо сказать, что Уэллс честно описал этот обед с петроградскими писателями:
«Вряд ли у кого в Петрограде найдётся во что переодеться; старые, дырявые, часто не по ноге сапоги — единственный вид обуви в огромном городе, где не осталось никаких других средств транспорта. Я видел на Неве лишь один переполненный пассажирский пароход; обычно река совсем пустынна, если не считать редких буксиров или одиноких лодочников, подбирающих плавающие бревна, кроме нескольких битком набитых трамваев.
Порой наталкиваешься на самые удивительные сочетания в одежде. Директор школы, которую мы посетили без предупреждения, был одет с необычайным щегольством: на нём был смокинг, из-под которого выглядывала синяя саржевая жилетка. Несколько крупных учёных и писателей, с которыми я встречался, не имели воротничков и обматывали шею шарфами. У Горького — только один-единственный костюм, который на нём.
Когда я встретился с группой петроградских литераторов, известный писатель г. Амфитеатров обратился ко мне с длинной желчной речью. Он разделял общепринятое заблуждение, что я слеп и туп и что мне втирают очки. Амфитеатров предложил всем присутствующим снять свои благообразные пиджаки, чтобы я воочию увидел под ними жалкие лохмотья. Это была тягостная речь и — что касается меня — совершенно излишняя, и я упоминаю о ней здесь для того, чтобы подчеркнуть, до чего дошла всеобщая нищета.
Плохо одетое население этого пришедшего в невероятный упадок города к тому же неимоверно плохо питается, несмотря на непрекращающуюся подпольную торговлю. <…> Обед самой низшей категории состоял из миски жидкой похлёбки и такого же количества компота из яблок».
В отличие от Анненкова, который постоянно называет Петроград Петербургом, Уэллс именует его и так и этак:
«Петроград был искусственным творением Петра Великого; его бронзовая статуя всё ещё возвышается в маленьком сквере близ Адмиралтейства, посреди угасающего города. Дворцы Петрограда безмолвны и пусты или же нелепо перегорожены фанерой и заставлены столами и пишущими машинками учреждений нового режима, который отдаёт все свои силы напряжённой борьбе с голодом и интервентами. В Петрограде было много магазинов, в которых шла оживлённая торговля. В 1914 году я с удовольствием бродил по его улицам, покупая разные мелочи и наблюдая многолюдную толпу. Все эти магазины закрыты. Во всём Петрограде осталось, пожалуй, всего с полдюжины магазинов…
Я не уверен, что слова „все магазины закрыты“ дадут западному читателю какое-либо представление о том, как выглядят улицы в России. Они не похожи на Бонд-стрит или Пиккадилли в воскресные дни, когда магазины с аккуратно спущенными шторами чинно спят, готовые снова распахнуть свои двери в понедельник. Магазины в Петрограде имеют самый жалкий и запущенный вид.
Краска облупилась, витрины треснули, одни совсем заколочены досками, в других сохранились ещё засиженные мухами остатки товара; некоторые заклеены декретами; стёкла витрин потускнели, всё покрыто двухлетним слоем пыли. Это мёртвые магазины. Они никогда не откроются вновь.
<…> Столкнувшись с нехваткой почти всех предметов потребления, вызванной отчасти напряжением военного времени, — Россия непрерывно воюет уже шесть лет, — отчасти общим развалом социальной структуры и отчасти блокадой, при полном расстройстве денежного обращения, большевики нашли единственный способ спасти городское население от тисков спекуляции и голодной смерти и, в отчаянной борьбе за остатки продовольствия и предметов первой необходимости, ввели пайковую систему распределения продуктов и своего рода коллективный контроль.
Советское правительство ввело эту систему, исходя из своих принципов, но любое правительство в России вынуждено было бы сейчас прибегнуть к этому. Если бы война на Западе длилась и поныне, в Лондоне распределялись бы по карточкам и ордерам продукты, одежда и жильё. Но в России это пришлось делать на основе не поддающегося контролю крестьянского хозяйства и с населением недисциплинированным по природе и не привыкшим себя ограничивать. Борьба поэтому неизбежно жестока».
Спустя много лет в своей книге «Жили-были» Шкловский напишет про дом Горького:
«В доме всегда было много самого разнообразного народа.
Приезжал спокойный, белокурый, сильный, умный, пытающийся ни на что не удивляться Уэллс с молодым сыном-химиком. Он разговаривал с Горьким через Марию Игнатьевну — переводчицу — и по мере разговора становился всё серьёзнее, печальнее и взволнованнее, всё более удивляясь».
Вот во что трансформировался равнодушный и краснорожий английский гость. Так всегда бывает с воспоминаниями.
Но есть ещё один сюжетный ход в этой истории.
На этом же пиру был и Александр Грин, и об этом написал Михаил Слонимский:
«Показательно краткое выступление Грина на банкете литераторов в честь приехавшего к нам в двадцатом году Уэллса. Его речь резко отличалась от ряда произнесённых на этом банкете речей, в которых было немало пошлого, глупого и враждебного Советской власти. Грин держался ещё более чопорно, чем всегда. Он приветствовал Уэллса как художника. И он напомнил присутствовавшим рассказ Уэллса „Остров эпиорниса“ — о том, как выкинутый на пустынный остров человек нашёл там яйцо неизвестной птицы, положил его на солнечный припёк, согрел и вырастил необыкновенное существо, от которого ему пришлось спасаться, ибо это его детище стремилось убить его.
В человеке, вырастившем необычайную птицу, Грин усмотрел художника, в птице, гоняющейся за ним, — плод его художественного воображения, мечту его. Эта мечта, по Грину, была способна убить её носителя. Уже одно это неожиданное истолкование рассказа Уэллса показывало, как относился к творчеству художник-фантаст Александр Грин. Искусство казалось Грину подчас недобрым, злым, способным убить человека. Как часто случается с писателями, Грин, говоря о другом писателе, в данном случае об Уэллсе, говорил, конечно, о самом себе. В выращенной на пустынном острове странной птице Уэллса Александр Грин увидел родное душе своей искусство. И когда Грин описывал пустынный остров, казалось, что описывает он любимые, родные места. И со вкусом произносил он такие необычные для русского языка слова, как, например, „дрок“. В этом своём выступлении Грин продолжал, в сущности, прежнюю свою, дореволюционную линию поведения, охранял позицию человека, оставшегося наедине со своей мечтой, которая гонит его и грозит убить его».
Спустя несколько лет Грин написал один из своих лучших рассказов.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
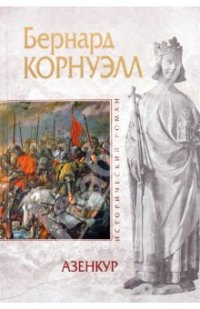



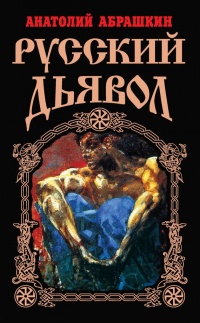
Комментарии