Пять процентов правды. Разоблачение и доносительство в сталинском СССР. 1928-1941 - Франсуа-Ксавье Нерар Страница 31
Пять процентов правды. Разоблачение и доносительство в сталинском СССР. 1928-1941 - Франсуа-Ксавье Нерар читать онлайн бесплатно
Само существование возможности написать в государственный орган, чтобы указать на наличие проблем, представлено как право советских людей: М. Ульянова видит в этом «одну из важнейших форм развития советской демократии» {330}. Это и есть тот фундамент, на котором базируются все рассуждения с целью вовлечь в процесс доносительства максимально большое количество людей. Регулярно официальные тексты напоминают, что «наш закон полностью обеспечивает возможность приносить жалобы на любого государственного служащего» {331}. Нет необходимости быть «сотрудником газеты» или обладать особыми талантами, чтобы написать в нее. Чтобы не создавать впечатления, что существуют специалисты по сигналам в прессу, рабочие и сельские корреспонденты обречены на то, чтобы постепенно растворяться в массе:
«В рабкоры, селькоры не принимают и не зачисляют. Рабочий, пишущий в стенную или печатную газету называется рабочим корреспондентом (сокращенно рабкор), а крестьянин — сельский корреспондент (селькор). Рабкор это не чин и не звания, а общественная работа» {332}
Отныне «рабочий, работница, крестьянин, крестьянка, служащий, каждый труженик может и должен писать в наши стенные и печатные газеты» {333}. Точно так же «все» могут обращаться в бюро жалоб {334}. Таким образом, это относится к самым широким слоям общества: говорят о «массах», о «трудящихся», обо «всех коммунистах и беспартийных». Не существует привилегированного статуса, дающего право писать.
Кампания самокритики ясно показала: подобное максимальное расширение практики рождает проблему врагов. Нужно ли давать слово тем, кто не является сторонником власти большевиков? Официально по крайней мере никакого клейма на жалобщиках не ставится: нет ни одного текста, в котором бы призывалось игнорировать письма или информацию из-за сомнительного социального происхождения или «неправильных» политических взглядов. Соблазн учитывать эти обстоятельства существует, как мы увидим, во время работы над жалобами и проявляется публично при обнародовании «результатов» проверок. Нередко случается, что обвинения отбрасываются на том основании, что они являются «клеветой», исходящей от классовых врагов. Тем не менее, когда на одном из совещаний бюро Комиссии советского контроля вопрос ставится открыто: следует ли рассматривать жалобы крестьян-одиночек с такой же скоростью, как и жалобы колхозников? — ее председатель Н. Антипов дает однозначный ответ {335}:
«Тут делался упор, что жалобы единоличников. Это не может быть аргументом того, что их можно затягивать разбором. Чья бы жалоба не была, ее надо разобрать и если жалоба неправильная, сказать, что отклоняем».
Начиная с пленума Центрального Комитета в январе 1938 года официальный дискурс меняется и весьма двусмысленно, можно наблюдать, как увеличивается число рассуждений по поводу угрозы, что сигналы будут использованы злонамеренными лицами, например, в «Правде» от 19 января 1938 года:
«Известно, далее, немало фактов, когда замаскированные враги народа, вредители-двурушники в провокационных целях организуют подачу клеветнических заявлений на членов партии и под видом «развертывания бдительности» добиваются исключения из рядов ВКП(б) честных и преданных коммунистов, отводя тем самым от себя удар и сохраняя себя в рядах партии» {336}.
Кадровый отдел Центрального Комитета партии, обращаясь к органам, занимающимся расследованием доносов, настаивает на необходимости наказать этих «клеветников и провокаторов» и «тщательно разобраться» {337} в содержании обвинений. Эти оговорки, новые и совершенно реальные, касаются, однако, лишь коммунистов, а не всего населения.
Но в том, что касается высказываний, открыто адресованных всему обществу, клеймо не ставится ни на ком: обращаться к власти могут все. Конечно же, приветствуется, чтобы советские люди подписывали свои «сигналы» и указывали адрес — в доказательство своей искренности и честности [97]. Однако анонимность писем вовсе не подвергается систематическому осуждению. Официально личность доносящего менее важна, чем раскрываемые им сведения, как о том напоминает инспекторша Центрального Комитета профсоюзов, командированная в Горький:
«В первые дни моего приезда сюда, моей задачей было поговорить с теми людьми, которые написали это заявление. Но заявление оказалось анонимным. Товарищи, которые были опрошены, говорят, что не знают, кто писал. Для нас коммунистов не важно, кто это писал, а важны сами факты» {338}.
Не только не существует документов, в которых бы подвергалась критике анонимность доносов, она даже поощряется властью. Начиная с 1929 года И.И. Шитц [98]упоминает в своих дневниках плакаты, висевшие в коридоре одного высшего учебного заведения: они призывали студентов «сообщать, даже без подписи, факты из деятельности профессоров» {339}. Чуть позже, во время уже упоминавшейся чистки Академии наук [99], представитель ЦК уточняет:
«Мы надеемся, что к нам будет поступать целый ряд заявлений в письменном виде, касающихся работы Академии, для чего мы вывесим специальные ящики, запечатанные, которые не может никто вскрыть, кроме членов комиссии. У нас могут быть и анонимные заявления, в которых будет указан целый ряд фактов, эти факты мы будем проверять и, если они подтвердятся, мы их вынесем на обсуждение общего собрания сотрудников. Таким образом, если к нам будут поступать заявления, мы их доведем до сведения собрания, если сотрудники пожелают, мы фамилии их указывать не будем, хотя, повторяю, каждый сотрудник будет находиться под нашей защитой» {340}.
И хотя документальных свидетельств о призывах к анонимным доносам не так уж много, мы не находим и открытого осуждения подобной практики. Терпимость в этом вопросе очевидна. Она менее очевидна по отношению к другому способу самозащиты: когда человек скрывается, не утаивая свое имя, но стараясь затеряться в массе подписей под коллективным письмом.
Может ли письмо-обращение к власти быть групповым поступком, или оно должно всегда исходить от отдельного человека? Этот вопрос никогда всерьез не ставится в публичных выступлениях власти. Нет, насколько мне известно, ни одного официального текста, где определялось бы, должен ли автор сигнала быть коллективным. Но в следующем конкретном эпизоде обращает на себя внимание весьма красноречивая особенность словоупотребления. В ходе заседания бюро Комиссии советского контроля в декабре 1936 года Н. Антипов берет слово для того, чтобы раскритиковать коллективное письмо, направленное в КСК [100]. Письмо это на самом деле — жалоба, но прежде чем отправить его, авторы «собрали» подписи. Таким образом, они направили «петицию», чего власть, по мнению Антипова, допустить не может. Слово «петиция», следовательно, используется, чтобы опорочить текст коллективного автора: для власти «пойти собирать подписи» значит «создавать общественное мнение», а на это «никто не имеет права». Это не означает, однако, что существует запрет и ведется систематическая борьба с коллективными письмами, их обычно допускают. Но власть самим выбором употребляемых слов отмечает предпочтение, отдаваемое ей индивидуальному письму.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

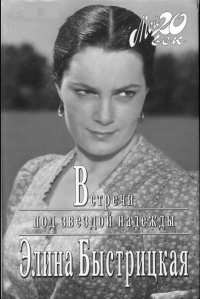

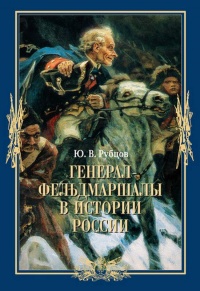
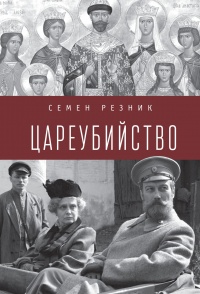
Комментарии