Борис Пастернак - Дмитрий Быков Страница 30
Борис Пастернак - Дмитрий Быков читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
писал ему Горький о гармоничнейшей его книге, о «Сестре»: вот в «Девятьсот пятом годе» он видел гармонию, хотя ее в этой двойственной, изломанной книге нет и близко. Пастернака не понимали потому, что не доросли: в письмах к Цветаевой он сетовал на неизбежность разницы между своим и читательским восприятием — приходится ждать два-три года, пока «догонят». Иногда, впрочем, темноты в его стихах и письмах сознательны, хотя никогда не нарочиты: Пастернак темен, когда сам не до конца понимает ситуацию. Чем отчетливей становилось его мировоззрение, чем меньше он стеснялся высказать его,— тем проще и прозрачней делались его стихи, проза и письма. В двадцатые годы разобраться в русской революции и ее ближайших последствиях было значительно трудней, чем в пятидесятые. Не следует объяснять двусмысленности только политическими предосторожностями: Пастернак не меньше Маяковского хотел «быть понят своей страной». Темноты и многословие его текстов в двадцатые — путаные показания непосредственного свидетеля, томимого вдобавок чувством собственной неуместности. По мере того как все становилось ясно,— яснел и слог, и синтаксис.
3
У Блока около сотни стихотворений, начинающихся с «Я»; в стихах Ахматовой «я», «мне», «меня» звучит не реже. Мандельштам — весь о себе. Мыслимо ли, чтобы Пастернак в ужасе спросил: «Дано мне тело. Что мне делать с ним, таким единым и таким моим?» Из его лирики мы не узнаем ничего об авторском облике. Попробуйте представить Пастернака, говорящего в стихах: «Я сам, позорный и продажный, с кругами синими у глаз» — насколько это органично у Блока, настолько непредставимо у него. Стремление Пастернака к эпосу, с юношеских лет неизменная мечта о романе — то же бегство от себя: он все может рассказать о Релинквимини, Спекторском, Живульте, Живаго. Но о себе начинает говорить только в сорокалетнем возрасте, в «Охранной грамоте» — и то постоянно ускользает, переводит разговор на Скрябина, Рильке, Маяковского; что это — деликатность или страх? Вообще Пастернак — едва ли не единственный поэт в русской литературе (из более поздних вспоминается только случай Льва Лосева), который бы до такой степени прятал — или, если хотите, растворял — свое лирическое «я». Цветаева это подметила безукоризненно в уже цитированной статье 1933 года:
«Лирическое «я», которое есть самоцель всех лириков, у Пастернака служит его природному (морскому, степному, небесному, горному) «я» — всем бесчисленным «я» природы. (…) Последнее «я» Пастернака — не личное, не людское, это — кровь червя, соль волны».
Цветаевское утверждение насчет последнего «я» оказалось неверным, поскольку как раз последнего Пастернака ей и не дано было прочесть; здесь она скорее угадала вряд ли ведомого ей мандельштамовского «Ламарка» («К кольчецам спущусь и к усоногим»), но остальное точно.
Может быть, стыдливость истинной любви мешала отечественным филологам признать то, что в 2001 году сформулировала берлинская исследовательница Франциска Тун в статье «Субъективность как граница: Цветаева, Ахматова, Пастернак». Здесь читаем:
«В отличие от лирики, например, Владимира Маяковского, лирика Пастернака порой звучит почти безличной… Создается впечатление, как будто лирическое «Я» само выступает в мире «объекта» и как бы на равных с другими объектами входит в этот мир элементов. Действительность (…) берет поэта на вооружение».
Пастернак подчеркивал, что искусство ничего не изобретает, а только изображает (отсюда сравнения его с губкой в статье «Несколько положений» и стихотворении «Художник»). Он множество раз говорил о своем отречении от романтической позиции, об отказе сознательно конструировать свою жизнь как жизнь поэта, о переносе центра тяжести с биографии на творчество («Я люблю людей обыкновенных и сам — обыкновенный человек» — письмо к Цветаевой от 30 мая 1929 года).
Но откуда же тогда беспрерывные разговоры об эгоцентризме и индивидуализме Пастернака? О его сатанинской гордыне (а встречаются и такие определения)? И, положа руку на сердце,— разве не можем мы назвать Пастернака индивидуалистом? Этот первый и главный из пастернаковских парадоксов — полное растворение и кажущаяся пассивность лирического «я» при столь же несомненном гордом индивидуализме — мы и рассмотрим подробнее, ибо здесь ключ ко всему его мировоззрению.
Почему он прячется? Что означает его маскирующееся, мимикрирующее — как у гусеницы, притворившейся сучком,— растворение в природе? Он страшно боится, что его узнают: «Вы узнаны, ветки! Прохожий, ты узнан!» («Метель»). Можно сказать, что это та самая доисторическая, дочеловеческая природность, о которой говорила Цветаева,— но, на наш взгляд, точнее будет здесь отметить особую стыдливость, сверхцеломудрие авторского «я». Эта же застенчивость на грани конформности (но никогда не за гранью) ощущалась и в уже упомянутой пастернаковской манере спорить: «Да-да-да… Нет!» Пастернак прячется лишь до поры. Его отказ от романтизма — ответ на символистские чрезмерности, на эстетизацию жизни, превращение ее в факт искусства; желание быть как можно скромнее и незаметнее — нормальная реакция художника на триумф субъективности. Пастернак стремится не к исчезновению, а к объективации, к переходу лирики в эпос. Для романа, говорил Мандельштам, нужна каторга Достоевского или десятины Толстого; «Доктор Живаго» доказал, что к сибирской каторге и яснополянским десятинам добавился промежуточный вариант — уральские заводы и переделкинская дача Пастернака.
Кажущаяся растворенность лирического «я» раннего Пастернака в окружающем мире диктовалась и тем, что это поэзия интеллигента, а не аристократа; разночинца, а не барина. Разночинцу присущи острое чувство вины, вечное интеллигентское сомнение в своей уместности — и потому он словно стесняется заявить о себе прямо. Вот мир, о нем и поговорим,— а к себе зачем же привлекать повышенное внимание? Но судьба России сложилась так, что сперва выбили аристократов, потом интеллигентов, и к пятидесятым годам сам Пастернак воспринимался уже как полноправный представитель старой России, аристократ, символ преемственности,— наросло новое поколение разночинцев, советская интеллигенция в первом и втором поколениях. Поздний Пастернак себя уже не стыдится и ни за что не просит прощения — вот почему «я» в его стихах начинает звучать все настойчивее. Вечное «Может быть, я не должен был этого говорить» — сменяется суровым «Я не мог этого не сказать». Отсюда и возвращение к Блоку, в котором Пастернак ценит теперь аристократа, «барича», профессорского внука («Четыре отрывка о Блоке»).
Роман Якобсон как истинный формалист видел причину пассивности пастернаковского лирического героя в том, что Маяковский предпочитает метафору, а Пастернак — метонимию; Маяковский противопоставляет себя миру (или по крайней мере мыслит себя принципиально отдельно) — Пастернак сравнивает «по смежности». Это не совсем так: формальный метод, при всех своих достоинствах, не абсолютен. Пастернак, может быть, гораздо более чужд социуму, чем Маяковский. Просто его лирическое «я» деликатней, ибо здоровым людям не свойственна истерика — а Пастернак, по завистливому определению Мандельштама, именно «очень здоровый человек». Он не доводит дело до прямого противостояния, всячески избегает его, он распахнут миру — и старается не замечать, как этот мир жжет и царапает его на каждом шагу. Нужно долго и целенаправленно изводить его (а главное — окружающих), чтобы он возвысил свой протестующий голос и принял несвойственную ему бойцовскую позу. Для жизнеприятия, для слияния с миром в XX веке нужно не меньше, а может, и больше мужества, чем для противостояния. «Жизнь, как она у меня сложилась, противоречит моим внутренним пружинам»,— признается он в письме к Цветаевой от 11 июля 1926 года, но тут же добавляет:
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
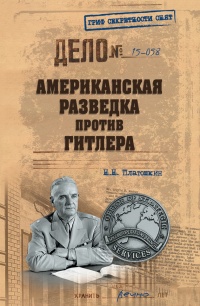
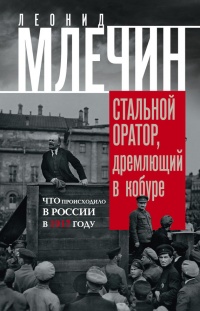
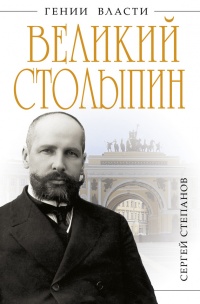

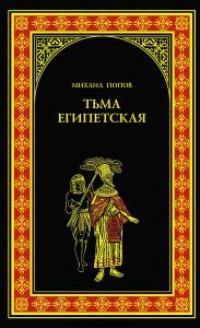
Комментарии