Сибирской дальней стороной. Дневник охранника БАМа. 1935-1936 - Иван Чистяков Страница 3
Сибирской дальней стороной. Дневник охранника БАМа. 1935-1936 - Иван Чистяков читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Но образ «человека с ружьем» нам знаком очень плохо, мы едва ли представляем себе «винтики» огромной репрессивной машины. Бывшие зеки, как можно судить по многочисленным воспоминаниям, чаще запоминали своих следователей, тех, кто допрашивал их в тюрьме после ареста, составлял протоколы и обвинительные заключения. (Не говоря уже о следователях, настоящих мучителях и садистах, — массовое явление в 1937–1938 годах, во время Большого террора.) Такое трудно не запомнить. К тому же от следователя непосредственным образом зависела дальнейшая судьба и лагерный срок арестованных, и они часто склонны были видеть в нем — в конкретном человеке, а не в государственной репрессивной машине — персонализированное насилие, проявление по отношению к ним несправедливости и жестокости.
Но тех, кто охранял их в лагерях, люди, попадавшие в ГУЛАГ на многие годы, как правило, не запоминали. Охранники часто сменялись, были все будто на одно лицо, и в памяти заключенного оставался лишь тот, кто неожиданно проявлял какие-то человеческие чувства или, наоборот, особую жестокость.
Отношение заключенных к тем, кто их охранял в лагерях, довольно точно описывает Александр Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ»:
«В том наша ограниченность: когда сидишь в тюрьме или лагере — характер тюремщиков интересует тебя лишь для того, как избежать их угроз и использовать их слабости. В остальном совсем тебе не хочется ими интересоваться, они твоего внимания недостойны… А теперь с опозданием спохватываешься, что всматривался в них мало… может ли пойти в тюремно-лагерный надзор человек, способный хоть к какой-нибудь полезной деятельности? — зададим вопрос: вообще может ли лагерник быть хорошим человеком? Какую систему морального отбора устраивает им жизнь?.. Всякий человек, у кого хоть отблеск был духовного воспитания, у кого есть хоть какая-то совестливая оглядка, различение злого и доброго, — будет инстинктивно, всеми мерами отбиваться, чтобы только не попасть в этот мрачный легион. Но, допустим, отбиться не удалось. Наступает второй отбор: во время обучения и первой службы само начальство приглядывается и отчисляет всех тех, кто проявит вместо воли и твердости (жестокости и бессердечия) — расхлябанность (доброту). И потом многолетний третий отбор: все, кто не представляли себе, куда и на что идут, теперь разобрались и ужаснулись. Быть постоянно орудием насилия, постоянным участником зла! — ведь это не каждому дается и не сразу. Ведь топчешь чужие судьбы, а внутри что-то натягивается, лопается — и дальше уже так жить нельзя! И с большим опозданием, но люди все равно начинают вырываться, сказываются больными, достают справки, уходят на меньшую зарплату, снимают погоны — но только бы уйти, уйти, уйти! А остальные, значит, втянулись? А остальные, значит, привыкли, и уже их судьба кажется им нормальной. И уж конечно, полезной. И даже почетной. А кому-то и втягиваться было не надо: они с самого начала такие» [9].
Эти слова Солженицына о тех, кому не удалось «отбиться», кто чувствует, что так дальше «жить нельзя», и хочет только «уйти, уйти, уйти», прямо относятся к Ивану Чистякову. И дневник, который оставил Чистяков, дает нам уникальную возможность понять, что думал и чувствовал человек, оказавшийся в его роли.
В 1935-м Чистякова призвали во внутренние войска и отправили на край света командовать взводом стрелков ВОХР, конвоировать заключенных на работу, охранять лагеря по периметру, сопровождать эшелоны и ловить беглецов.
С этого момента каждый день, проведенный им на БАМе, проникнут одним желанием: любой ценой выбраться из того кошмара, в который он попал.
Прежде всего, Чистяков сам оказался в ужасных бытовых условиях, которые не устает описывать: «Так вот и живем… топчан с сенным матрасом, казенное одеяло, стол на 3-х ножках, да 1 скрипучая табуретка, у которой каждый деть приходится кирпичом заколачивать выезжающие гвозди. Керосиновая лампа с разбитым стеклом и бумажным из газеты абажуром. Полка из куска доски обтянута газетой. Стены частью голые, частью оклеены бумагой от цемента. Всегда сыпется с потолка песок, и щели в оконных рамах, в двери и пазах стен. Буржуйка. Пока топят, то одному боку тепло. Что к печке, то на Южном полюсе, что от печки, то на Северном».
Едва ли не на каждой странице дневника мы читаем про тяжелый климат, отвратительное жилье, где ночью от холода волосы прилипают ко лбу, отсутствие бани, нормальной еды. Чистякова постоянно мучает простуда, боли в желудке, ревматизм. Он командует взводом охраны, он — самое низшее в этой системе командное звено, и тяжесть своего положения он ощущает с двух сторон. С одной стороны — грубые, безграмотные, пьяные стрелки, многие из которых тоже заключенные (осужденные на небольшие сроки) или бывшие заключенные, с которыми он не может найти общего языка: «Помещение ВОХР. Топчаны, цветные одеяла, безграмотные лозунги и кто в летней, кто в зимней гимнастерке, кто в своем пиджаке, кто в ватнике, подпоясаны кто веревочкой, кто ремнем, кто брезентовым поясом. Курят, лежа на постели. Двое схватились и, образовав клубок, катаются, один задрав кверху ноги, смеется, смеется неистово, надрывно. Лежит и пилит на гармошке страдания. Горланит: „Мы работы не боимся, а на работу не пойдем“».
С другой стороны на него давит чекистское начальство, переведенное на БАМ с Соловков и прошедшее там школу власти «соловецкой, а не советской» (поговорка, которая родилась в Соловецком лагере [10] и на долгие годы его пережила) — школу, методы которой теперь распространились на всю гулаговскую систему. О том, какова эта власть, какими жестокими методами действует она по отношению к заключенным (с этим должен был столкнуться и Чистяков на БАМе), пишет Варлам Шаламов, анализируя собственный лагерный опыт начала 1930-х: «Ведь кто-то застрелил тех трех беглецов, чьи трупы, — дело было зимой, — замороженные, стояли около вахты целых три дня, чтобы лагерники убедились в тщетности побега. Ведь кто-то дал распоряжение выставить эти замерзшие трупы для поучения? Ведь арестантов ставили — на том же самом Севере, который я объехал весь, — ставили „на комарей“, на пенек голыми за отказ от работы, за невыполнение нормы выработки».
Описаний такого садизма у Чистякова мы не найдем. Но то, что система, в которую он попал, бесчеловечна, полна насилия, бессмысленной жестокости, осознается им очень ясно. Та роль, которую он должен играть здесь в Бамлаге, вызывает у него чувство стыда: «Куда, думаю, я попал? И стыдно стало мне за свой кубик, за то, что я командир, за то, что я живу в 1935 г.».
В записях, сделанных Чистяковы вскоре после приезда на БАМ, сильны ноты сочувствия к тем, кого он вынужден охранять. Он понимает, почему зеки отказываются выходить на работу и при любой возможности стараются бежать: «Прислали малолеток: вшивые, грязные, раздетые. Нет бани, нет, потому что нельзя перерасходовать 60 руб. Что выйдет по 1 к. на человека. Говорят о борьбе с побегами. Ищут причины, применяют оружие, не видя этих причин в самих себе. Что тут косность, бюрократизм или вредительство. Люди босы, раздеты, а на складе имеется все. Не дают и таким, которые хотят и будут работать, ссылаясь на то, что промотают. Так не проматывают и не работают, а бегут».
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

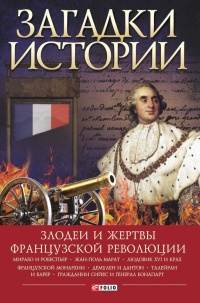
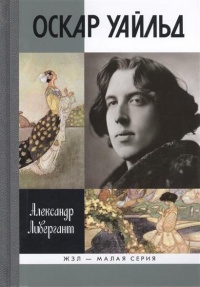


Комментарии