Каверин - Наталья Старосельская Страница 29
Каверин - Наталья Старосельская читать онлайн бесплатно
Его нельзя было назвать фаталистом. Он умел распоряжаться своей судьбой… Время шло у него на поводу, биография выходила лучше, чем литература. Но литература, которая ни с кем не советуется и ни у кого не спрашивает приказаний, перестраивала его…
Когда-то вокруг него всё сотрясалось, оживало, начинало ходить ходуном. Он не дорожил тогда своей беспорядочностью, вспыльчивостью, остроумием. Теперь то, и другое, и третье он ценил дороже, чем следовало. С каждым годом он всё хуже понимал людей. Он терял вкус к людям. Иногда это переходило на книги…
Он сам себе стоял поперек дороги. Выходов было сколько угодно. Но он малодушием считал уходить в историю или в историю литературы. От случайной пули на тридцать восьмом году он умирать не собирался».
Кажется, портрет нарисован мазками жирными, крупными, не имеющими цели что бы то ни было сгладить, приукрасить, скорее наоборот. Но рядом признания, свидетельствующие о стремлении Каверина к объективности, к наибольшей точности в создании облика и внутреннего мира уникального человека, яркой индивидуальности.
«Ногин смотрел на него во все глаза (встретив у профессора Драгоманова. — Н. С.). Такого человека он видел в первый раз за всю свою жизнь… Какая сила и какой беспорядок чувствовались в этом человеке!
Он уже почти обожал Некрылова. Он ловил каждое слово, смотрел на него влюбленными глазами».
Думаю, что это один из самых точных литературных портретов Виктора Борисовича Шкловского той поры. И это подтверждено мемуарной литературой о нем и его собственными признаниями много десятилетий спустя. Вениамину Каверину удалось решить заданную себе самому задачу — написать роман о человеке, усомнившемся в его возможности овладеть подобной сложной формой, но не просто о человеке самом по себе, а о противоречивых и многообразных связях его с окружающим миром, людьми, проблемами, знаками и символами эпохи. Той самой «третьей эпохи», о которой размышлял в своих записях студент Ногин, подпавший под обаяние Виктора Некрылова и испытавший не просто творческий взлет, а и подлинное прозрение.
Очень интересно писал о Шкловском Б. М. Эйхенбаум в книге «Мой временник. Словесность. Наука. Критика. Смесь», изданной в 1929 году: «Он печатается уже 15 лет — и все эти 15 лет он существует в дискуссионном порядке… Каждый день в какой-нибудь газетной заметке или журнальной статье Шкловского „ругают“. Дело доходит до того, что у Шкловского учатся для того, чтобы научиться его же ругать… Он — писатель в настоящем смысле этого слова… Он профессионально читает книги, профессионально разговаривает с людьми, профессионально живет… Если он еще не „классик“ … то только потому, что он относится к числу не настоящих, а будущих русских классиков».
Прототипов буквально каждого персонажа давно уже «расшифровали» и первые читатели, и критики, и, конечно, «Скандалист» стал новым словом и новой формой и для Вениамина Александровича Каверина, и для литературы того исторического периода. Полагаю, что не погрешу против истины, предположив, что именно так, случайно, фактически на спор написанный роман вызвал у Вениамина Каверина не просто жгучий интерес к своему времени во всей сложности и противоречивости его восприятия, к характерам и типам этого времени, но и придал его интересу совершенно определенное направление, своего рода влекущий аромат — «фантастичность» самых обыденных событий, происходящих в окружающем мире, давала отнюдь не меньше, а гораздо больше материала для осмысления того, как невероятное перерождается в реальность. Ту самую реальность, которую он стал отныне с жадностью неофита познавать и пытаться запечатлеть.
И что еще очень важно.
В романе «Скандалист», как представляется, едва ли не впервые произошло то, к чему призывал начинающего писателя Горький — оттачивался образный, богатый язык, стал вырабатываться особый стиль повествования, ритм и атмосферу которого можно определить как свобода дыхания.
Вот как, например, описано в «Скандалисте» наводнение: «Это не было знаменитым наводнением 1924 года, когда Нева справляла столетний юбилей своей войны с Петербургом.
Когда торцы, всплывшие наверх, как огромное деревянное поле, проваливались под ногами лошадей.
Когда женщины снимали туфли и сапоги и с высоко поднятыми юбками переходили дорогу.
Когда отрезанные от своих жилищ люди яростно торговались с извозчиками — единственными обитателями города, для которых наводнение было удачей.
Когда из затопленных магазинов тащили мешки с мукой и никто не знал, грабят магазины или спасают товары, принадлежащие государству.
Когда свет погас во всех домах.
И сигнальная пушка стреляла через каждые три минуты.
Когда растерявшиеся милиционеры не знали, что делать с водой, не слушавшей приказаний.
Когда, уничтожив движение, погасив свет, выключив телефоны, вода установила безвластие и тишину, которую не знал город со времен своего основания.
Когда раскольники, застрявшие на братских могилах Марсова поля, громко молились, радуясь, что пришло наконец время исполниться предсказанию о гибели города, построенного антихристом на болотных пучинах.
Когда пожарные, похожие на ушкуйников, плавали в лодках по улицам, не напоминавшим венецианские каналы.
Когда очереди за хлебом и керосином и суетливость людей, наскоро изменявших привычные представления, напоминали Февральскую революцию.
Это было одно из очередных василеостровских наводнений, случающихся не раз в столетие, но почти каждую весну и каждую осень».
И далее — описание того, что чувствовал профессор Ложкин, сидя возле порта у взморья на деревянной тумбе, до той минуты, когда он встретился с братом, которого не видел после жестокой ссоры четверть века…
В романе «Скандалист» можно найти еще немало подобных ярких и сильных описаний, отчасти напоминающих ритмизованную прозу Андрея Белого в «Петербурге», но выраженную по-своему, незаимствованную.
И, конечно, характеры персонажей — профессора Ложкина, решившегося на бунт, вылившийся в пирушку у старого друга гимназических времен; молодого профессора Драгоманова, разочаровавшегося в своем деле, с его вызывающим докладом «О рационализации речевого общения» и признанием Некрылову: «Я решил, Витя, перевести весь Узбекистан на латинский алфавит. Может быть, мне удастся устроить им приличную литературу»; трусливого Кирилла Кекчеева, карьериста и приспособленца; Верочки Барабановой, которую словно порывами ветра несет по жизни, в чьей пространственно-временной протяженности она не может обрести себя; писателя Роберта Тюфина, «роскошного человека в роскошной шубе», воображающего себя едва ли не Львом Толстым…
И о самом названии романа нельзя не сказать.
Понятие «скандалист», как и определение «скандал», тоже преобразовалось с течением времени. О. Новикова и Вл. Новиков в своем исследовании справедливо отмечают, что «в данном контексте (у Каверина. — Я. С.) понятие не бытовое, а культурно-историческое. Это явление, пожалуй, предсказано было в романах Достоевского. Там скандал — не просто нарушение приличий, но способ заострения роковых вопросов, конфликт идей, развернутый с гиперболической выразительностью. Скандал необходим героям Достоевского для полноты самовыражения, для исповеди, обращенной urbi et orbi. Здесь звучали пророчества, здесь рождалось в муках новое время».
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
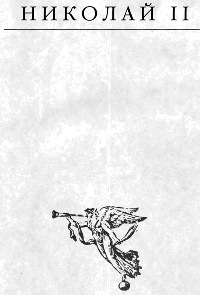



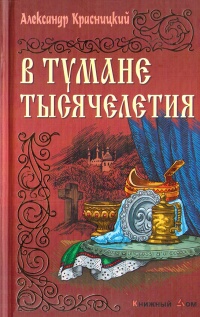
Комментарии