Мусоргский - Сергей Федякин Страница 27
Мусоргский - Сергей Федякин читать онлайн бесплатно
Балакирев говорит о заготовленных клакерах, о том, что Серову удалось угодить всем, что «публика поохладится от 1-го впечатления, тогда и все повернут в другую сторону», что вся опера — «остатки от обеда, приготовленного артистом-поваром, — (намек на Глинку), — подогретые знающим толк гастрономом, — (это уже Серов), — и пущенные в ход за свое блюдо».
Есть здесь и о Стасове, и обо всем кружке:
«Пожалуйста, пишите ко мне, у меня никого, кроме Вас, нет. Кюи я не считаю, он талант, но не человек в общественном смысле, Мусоргский почти идиот. Р.-Корсаков покуда еще прелестное дитя, обещающее многое, но когда он распустится в полном цвете, я уже буду стар и не буду ему годиться. Кроме Вас, я ни в ком не могу найти того, чего мне нужно».
Год 1863-й. Кружок уже существует. Но, в сущности, по признанию и музыкального и идейного руководителя, единомыслия нет. Характеристика Модеста Петровича — самая неутешительная.
* * *
Мусоргский напишет Балакиреву о «Юдифи» 10 июня, из Торопца. Два раза он слушал оперу Серова, теперь «улеглось», и он готов делиться ощущениями.
Стасовское негодование он помнил. И скептические отзывы Милия о первом действии. Эту точку зрения он готов разделить. Но сквозь критику и неприятие («либретто крайне плохо, декламация жалкая, не русская…» и т. д.) пробивается иной голос. Мусоргский словно примеривает сюжет на себя, как сам он воплотил бы в звуке и на сцене тот или иной эпизод. В библейском сюжете (Юдифь проникает в стан врага и отрубает голову царю Олоферну) он видит героическую оперу. И она требует широких народных сцен.
«Фраза, рисующая положение народа, лежащего в изнеможении на сцене, пропадает с начинающимся речитативом старост. Я бы ее продолжил, прибавил бы сочку, и на развитии, на ходах этой фразы, построил бы декламацию старост. Не надо забывать, что на сцене: молча в беспорядке лежат истомленные жаждой евреи, а Серов и думать о них забыл, — народ понадобился ему позже для какого-то пресловутого дрянного fugato».
И все же именно в этой сцене Мусоргский услышит что-то насущно важное: «Самый кончик первого акта прекрасен. Народ проклинающий, народ свирепеющий в fugato, теряет последнюю надежду, последнее сознание своих сил — бессильный он отдается одному чувству, — какой-нибудь сверхъестественной помощи; резкий переход к pianissimo (квинты в басах при этом как-то особенно, мистично звучат); это какая-то торжественная затишь, так и не заканчивающаяся, и это прекрасно; впечатление верное, хорошее — это лучшее место в опере. Я, быть может, слишком пристрастен к этому лакомому кусочку, но, значит, хорош кусочек, если один из всей оперы вызвал мое увлечение».
Оценка слишком резко расходилась с мнением Стасова. То и дело Мусоргский находил недостатки: сумбурная увертюра, «старосты благословляют Юдифь в ее благом намерении идти к врагам; без дозволения начальства Юдифь не хочет быть героиней», евреи «валяют без церемонии католические органные секунды», что нарушает историческую подлинность… Один промах особенно бросался в глаза, инструментовка не всегда соответствовала образу: «Сама Юдифь не верна в опере. Юдифь, по смыслу своего поступка, баба хоть куда, с размаха рубит голову Олоферна — к чему ж здесь арфы и нежная идеальная инструментовка?» Были и целиком провальные сцены: «Олоферн пьян до чертиков, начинается галлюцинация. 3-й и 4-й акты показали всю недаровитость, всю бесстрастность Серова; какое широкое поле для музыканта пирующий сенсуалист-деспот, как интересно можно было бы обставить в оркестре сцену галлюцинаций».
И все же, невзирая на промахи, нелепости, неувязки, была в опере затаенная, мрачноватая энергия. И Мусоргский почувствовал это. И потому… — «Первая после „Русалки“ серьезно трактованная опера на русской сцене».
В своем неприятии он вроде бы не оставил в опере Серова камня на камне. В общей оценке — не послушался никого. Несомненно, Компанейский был прав, заметив, что «Юдифь» произвела сильное впечатление на Мусоргского. Она и вправду толкнет его к музыкальному постижению Востока, особенно — библейского. Она словно подзадоривала его. Отсюда путь и к его «еврейским» хорам, и к особенному вниманию к народным сценам в «Годунове» и «Хованщине», и к галлюцинациям преступного царя, и к образу раскольницы Марфы («баба хоть куда!»). Мусоргский многому научился в те два спектакля, которые успел увидеть в Петербурге. И теперь, зная, что средств, получаемых с имения, будет недостаточно, что пора подумать и о службе, он, тем не менее, полон самых широких замыслов.
Год 1863-й готовил России несколько потрясений. И «Юдифь» была не самым ошеломительным. Сидя в крепости, заключенный Николай Гаврилович Чернышевский написал роман, само название которого звучало извечным русским вопросом: «Что делать?» Читатели, понимающие, что есть художественное слово, могли морщиться от этого произведения. Но книга Чернышевского имела особенную судьбу. Она увидела свет на страницах журнала «Современник». Журнал переходил из рук в руки, истрепанные страницы читались с жадностью. Потом пошли рукописные списки. Пусть роман был наивен, пусть автор сложные вопросы решал одним росчерком пера. Но о книге не только говорили (ругали, восторгались). Ей стали подражать. Роман, написанный довольно сомнительным художником слова, но несомненным политическим энтузиастом, заразил молодую Россию.
Две идеи заполонили умы юных современников: коммуна и образ Рахметова. И если подражать второму — жить одними испытаниями, готовить себя к самому трудному, для закалки характера спать на голой доске, утыканной гвоздями, — могли не многие, то коммуны стали расти как грибы. Молодые люди снимали общую квартиру и жили вскладчину.
Чернышевский легко доказал, что жизнь в коммуне, в одной квартире, дешевле, нежели жизнь одиночек. В реальности все получалось не так гладко, один мог внести в общую кассу сумму побольше, другой был ограничен в средствах. Начинались трения, конфликты.
За участниками коммун следили жандармы — идея и такого «социализма» беспокоила власти. О подобного рода общежитиях намеренно распространяли злые и вздорные слухи. И все же коммуны возникали. Они могли и не дать «экономии средств», но давали живое общение.
Осенью 1863-го Мусоргский, вернувшись из Торопца, поселится в коммуне братьев Логиновых. Место, где шестеро молодых людей найдут пристанище, будет не самым благополучным. Изнанка блистательной столицы, с болезненной чуткостью описанная Достоевским: дворы-колодцы, где человек окружен каменными стенами и только ясным днем может впиться страждущими глазами в клочок сияющего неба. Черные замызганные лестницы с кошачьим запахом. Бедное население Петербурга — пьяные, несчастные и забитые люди. Душная пыльная жара, или тяжелый туман с моросящим дождем, или сырая зима с липким желтоватым снегом. Подворотни, серые выступы стен, темные подвалы. Поблизости — чайные, трактиры, всякого рода питейные заведения. Здесь сдавались самые дешевые квартиры. Потому и зажить коммуной всего легче было именно тут.
Изнутри это общежитие опишет Владимир Стасов: «У каждого из товарищей было по отдельной своей комнате, куда никто из прочих товарищей не смел вступать без специального всякий раз дозволения, и тут же была одна общая большая комната, куда все сходились по вечерам, когда были свободны от своих занятий, читать, слушать чтение, беседовать, спорить, наконец, просто разговаривать или же слушать Мусоргского, играющего на фортепиано или поющего романсы и отрывки из опер». Три брата Логиновых — Вячеслав, Леонид, Петр, — и два Николая — Лобковский и Левашов. Люди они были образованные, служили кто в сенате, кто в министерстве. Досуг всецело посвящали наукам или искусствам.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


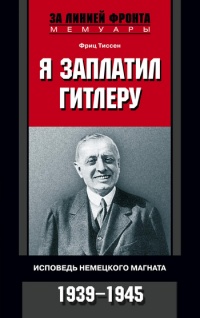
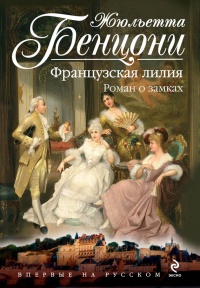

Комментарии