Самое шкловское - Виктор Шкловский Страница 24
Самое шкловское - Виктор Шкловский читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Из книги «Третья фабрика»
(1926)
Красный слоник, игрушка моего сына, пускаю тебя первым в свою книгу, чтобы другие не гордились.
Красный слоник пищит. Все резиновые игрушки должны пищать, иначе зачем бы у них выходил воздух?
И вот, вопреки Брему, красный слоник пищит. И я пишу в своем высоком гнезде над Арбатом.
Редкая птица доберется до меня, не запыхавшись. Я отучился в своем гнезде от длинного дыханья.
Мой сын смеется.
Он засмеялся, когда в первый раз увидел лошадь, он думал, что это в шутку она сделала четыре ноги и длинную морду.
Мы наштампованы разными формами, но голос у нас один, если надавить.
— Красный слоник, отодвигайся, я хочу увидеть жизнь без шутки и сказать ей нечто голосом не через пискульку.
Здесь конец фельетону.
Через ночь, в которой бредил, как всегда, искал врага в комнате, плакал. Началось утро.
У меня была серая кофточка (не люблю этого слова) с резинкой снизу. Шапка летом на резинке. Резинку я грыз. Чулки были тоже на резинках, красных.
В семье у нас не было велосипедов, собак. Раз держали поздно выведенных цыплят у печки. Они страдали рахитом, а я их лечил резаной бумагой.
Был у меня еще, но много времени спустя, щур в деревянной клетке. Щур пел свою песнь в шесть часов утра, а я просыпался в восемь. Потом его съела крыса.
Я уже старый. Когда я был мальчиком, то еще попадали под конку. Конка была одноконная и двухконная.
При мне провели электричество. Оно еще ходило на четвереньках и горело желтым светом. При мне появился телефон.
При мне начали бить студентов. Рабочие же жили так далеко, что у нас, на Надеждинской, о них почти не слыхали. К ним ездили конкой.
Я помню Англо-бурскую войну и гектографированную картинку: бур шлепает англичанина. Приезд французов в Петербург. Начало двадцатого века. Ледоходы на Неве.
Дед мой был садовником в Смольном. Седой крупный немец. В комнате его была синяя стеклянная сахарница и вещи, покрытые темным ситцем. За домом его гнулась Нева, а на ней было что-то цветное и маленькое.
Не могу вспомнить что.
Я не любил, чтобы мне застегивали и расстегивали пуговицы.
Читать меня учили по кубикам, без картинок. Дерево лезло из кубиков по углам. Помню букву «А» на кубике. И сейчас бы узнал ее. Помню вкус зеленого железного ведерка на зубах. Вообще вкус игрушек. Разочарованья.
Гуляли мы в маленьком сквере у церкви Козьмы и Демьяна. Называли: «Козьма и обезьяна». За стеной плаца был амбар. Там жили обезьяны, по-нашему… Амбар имел трубу. Взрослые сердились.
Мы были дики и необразованны. Взрослые не достигали нас. Они не достигают вообще. Помню стихи:
Была еще корь. Одним давали кисель молочный, другим — черничный. Болели четверо детей враз.
Бассейная улица стояла еще деревянной. В то время еще радовались в городе, когда рубили сады. Мы были настоящие горожане.
Была еще «Нива» в красных с золотом переплетах. В ней картинки: состязание на дрезинах. Велосипед был уже изобретен, и им гордились так, как мы сейчас принципом относительности.
На краю города, за Невой, на которой дуло, был Васильевский остров, на котором жил в коричневом доме, езды до него полтора часа, дядя Анатолий. У него был телефон и подавали на Пасху золоченые, но невкусные яйца и синий изюм.
А на столе его невысокой жены — тройное зеркало и розовая свинья копилкой. Она стояла для меня на краю света.
Она любила меня и не мучила. Мы целовали друг друга и не умели.
А раз мы целовались уже к утру, и вдруг красное ударило в окно, и женщина закричала. Это был царский день, и ветер бросил флаг нам в окно, выбрав нижнюю полосу.
Вставало солнце.
Утром пустые улицы, разведенные мосты и солнце, встающее за крестами на правом берегу Невы.
Спал мало, иногда падал в обморок. Любить женщину и шляпу, которую она носит, помнить ее двенадцать лет или пятнадцать — хорошо.
Мы лен на стлище. Так называется поле, на котором стелют лен.
Лежим плоскими полосами. Нас обрабатывает солнце и бактерии, как их там зовут?
А от меня по правую руку полка с Толстым.
У меня на стлище лет десять лежит одно его слово. Проверю отрывок.
Помню, шел я раз в Москве по улице и впереди себя вижу, вышел человек, внимательно посмотрел на камни тротуара, потом, выбрав один камень, присел над ним и стал его (как мне показалось) скоблить или тереть с величайшим напряжением и усилием.
«Что такое он делает с этим тротуаром?» — подумал я. Подойдя вплоть, я увидал, что делал этот человек. Это был молодец из мясной лавки: он точил свой нож о камень тротуара. Он вовсе не думал о камнях, рассматривая их, и еще меньше думал о них, делая свое дело — он точил свой нож. Ему нужно было выточить свой нож для того, чтобы резать мясо; мне показалось, что он делает это дело над камнями тротуара. Точно так же кажется, что человечество занято торговлей, договорами, войнами, науками, искусствами; одно дело для него важно и одно только дело оно делает: оно уясняет себе те нравственные законы, которыми оно живет…
Не стану спорить с мертвым Толстым. Возьму его, как искусство, — мимо.
Возьму примером. Не в том дело, что мы лежим на стлище, что нам больно или радостно. Дело в острении ножа, в искусстве [87].
А камни, о которые точат нас, они лежат по другому делу, иначе положены, нужны нам, но текут иначе.
А если я влюблен в камень, в ветер, если мне не нужен сегодня нож?
Лен не кричит в мялке. Мне не нужна сегодня книга и движение вперед, мне нужна судьба, горе тяжелое, как красные кораллы.
Устрица сближает створки раковины напряжением. Сжав их, она уже не работает. Мышцы ее не выделяют тепла, но держат створки.
Таким мертвым сжатием сжаты стих и проза. Их нельзя держать теплым усилием мышц.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

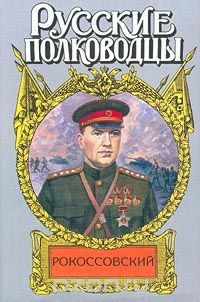
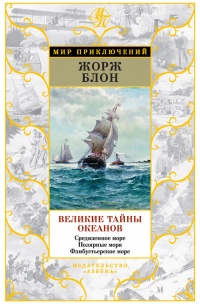


Комментарии