Поколение пустыни. Москва - Вильно - Тель-Авив - Иерусалим - Фрида Каплан Страница 23
Поколение пустыни. Москва - Вильно - Тель-Авив - Иерусалим - Фрида Каплан читать онлайн бесплатно
Фабричные парни и девушки не ходили гулять по главной улице, они уходили летом за пределы местечка, а зимой собирались у кого-нибудь из товарищей. Они читали нелегальную литературу, привезенную из-за границы, напечатанную на тонкой папиросной бумаге, или еврейские книги, брошюры, листки. Чаще они уходили за речку, где обсуждали свои профессиональные дела, забастовки, вербовали новых членов.
Летом наезжало много студентов и курсисток из столицы, у них у всех было дела по горло, некоторые давали уроки в буржуазных домах детям, которые имели переэкзаменовку, и таким образом зарабатывали себе на плату за учение и на жизнь в университетском городе. Кроме того, они давали уроки в кружках и бесплатным ученикам, экстернам, а главным образом — вели пропаганду и организовывали ячейки каждый своей партии. Не раз их накрывала полиция и сажала в тюрьму. В таких случаях мы им носили пакеты в тюрьму, подкупали стражников, передавали почту и газеты и книги.
В русские клубы приглашали на вист только евреев академиков [87], врачей, аптекарей, дантиста — с женами. Наша красавица Изабелла со своим художником-мужем тоже не раз бывали приглашены, и она потом рассказывала, что дамы очень безвкусно одеты, но офицеры «очень милы»: неудивительно — офицеры любили красивых «евреечек». Белла танцевала и имела успех назло офицерам.
В базарные дни площадь была непроходимо грязна от возов и скота, и крики поросят, мычание коров и ссоры торговок были душераздирающи. Грош — полкопейки — была такая же ходячая монета, как в Москве пятачок. Если начиналась драка, не обходилось без стражников и еврейских мясников — «кацовим», которые прекращали маленькие погромы с переворачиванием возов и растаскиванием товаров. Стражники кричали: «Осади назад», мясники с окровавленными руками и секачами (кровь была бычья, конечно) и авторитетная фигура урядника или околоточного приводили все снова в порядок. Мужики сразу успокаивались, уступали с цены, шли в трактир выпить косушку водки, а мясники возвращались к своим «ядкам». — «Ну, то-то, а то угнал бы я вас, куда Макар телят не гонял», — говорил урядник и покручивал свой длинный русый ус.
Так шла жизнь в маленьком местечке, из года в год. Лето приносило немного разнообразия благодаря дачникам и студентам, а зимой все затихало и покрывалось снежной пеленой — сады, кладбище, маленькие домишки на «застенке». Все наши гости разъезжались с началом занятий в школах, Фани возвращалась в консерваторию, Беллы — на свои Бестужевские или Лесгафтские курсы, а я — в свою гимназию.
* * *
Когда я первый раз вернулась домой в Москву из Лейзерувки, меня трудно было узнать, так я выросла и поправилась, загорела и развилась.
Но еще меньше можно было узнать наш дом. Сестра Олечка выросла, начала ползать, лепетать, пробовала ходить. Она стала очень занятной. Меня, конечно, вначале не узнала.
Мама почему-то была еще печальнее, чем во время жизни с моим отцом. Она так же мало интересовалась сестрицей, как и мной когда-то, сидела часто на диване с открытой книгой, не читая ее, играла и переигрывала «Warum» Шумана, или «Кармен», или арии из «Сельской чести» [88]. Муж ее первый же год после женитьбы не работал, проводил время вне дома, говорил, что должен «поджидать клиентов» в дорогих ресторанах. Подряды его кончились, кучера и лакея рассчитали, и в наш дом вошла нужда, какой мы никогда не знали.
Меня часто посылали к дедушке просить золотой, пятерку или десять рублей, а иногда я даже приносила в судочке обед из дедушкиной кухни. Однажды мне дедушка дал два золотых, я положила их в варежку, зажала в руке и побежала домой. По дороге поскользнулась на снегу, деньги выпали из варежки и покатились. Я их искала и была почти в отчаянии: золотые исчезли в снегу. Но вдруг заблестело что-то шагах в двух от меня — я нашла первый золотой и потом второй. Я со слезами вернула маме деньги и рассказала о чуде, которое случилось. С тех пор она боялась поручать мне ходить за деньгами и старалась одалживать у няньки или ее сестры или посылала закладывать брошки и кольца в ломбард. Впрочем, этого я тогда еще не знала.
Мой отчим был очень капризен в еде, ему покупали дорогие балыки и икру и сыры, несмотря на то, что денег в доме не было. Все, что моя мать скопила за жизнь с отцом, ушло на обстановку, устройство квартиры и широкую жизнь не по средствам. Кормилица, расфранченная в сарафан с кокошником и бусами, была заменена простой няней, она же была и кухаркой.
Вскоре мы переехали к дедушке, но на этот раз нам дали маленькую квартирку в нижнем этаже. Я снова спала у дедушки на диване, там же я играла, учила свои уроки и упражнялась на рояли. Часто я спускалась к маме, чтобы нянчить Олю, потому что у няньки было слишком много работы, стирка и варка, и моя помощь была очень полезной.
Дедушка, который раньше очень гордился отчимом, его деловитостью, выездом, лакеем и прочим, теперь переменил к нему свое отношение. Мама его защищала и хотела, чтобы отчима взяли в дело к дедушке, как когда-то моего отца, но дедушка наотрез отказался. Кончилось тем, что отчим нашел в Петербурге работу в каком-то деле, мама продала всю обстановку и с нянькой и ребенком переехала в Петербург. Там мама нашла маленькую квартирку, купила самое необходимое и дешевое, продала и заложила свои меха и бриллианты и радикально изменила образ жизни. Я оставалась у дедушки до конца учебного года, а потом переехала в Вильну, к отцу.
* * *
Когда я была летом на даче в Вильне, однажды пришло письмо, которое предназначалось больше для отца, чем для меня, и в этом письме мама писала: «В Петербурге, как я выяснила, у тебя нет правожительства, и тебя не примут в гимназию, поэтому ты должна остаться в Вильне». После их развода это был второй тяжелый удар в моей жизни. Я терпела Вильну с ее мелочной, неэстетичной, унизительной жизнью, где — как я видела — евреи пресмыкались перед неевреями, перед полицией, перед дворником и городовым, вели тяжелую борьбу за грошовое существование. Раньше я приезжала на время — на лето на дачу или на Рождество, когда меня развлекали, одаривали, водили по театрам и катали на санках. Теперь же мне предстояло жить, остаться в этом городе, который я не любила, без матери (сон-то был в руку!), без моей московской школы и подруг и дедушкиного дома, вообще меня отрывали от всего, к чему я привыкла и что любила. Я была глубоко несчастна и плакала все ночи напролет. Я должна была скрывать от отца и мачехи это мое горе, чтобы их не огорчать и не раздражать. Я начала «вести политику», из ребенка превратилась в маленькую женщину, которая сама себя воспитывала и перевоспитывала, считалась с окружающими и научилась скрывать свои мысли и отношение к людям.
Больше всего я тосковала по маме и сестренке, я боялась, что меня окончательно забудут и разлюбят и, кто знает, может быть, вообще я никогда больше не увижу их. Мне было всего двенадцать лет.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

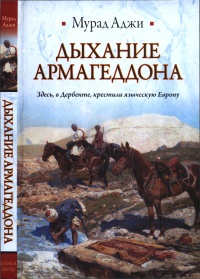
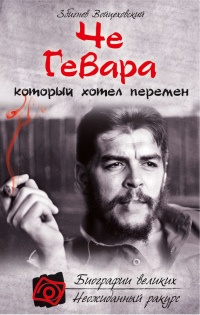

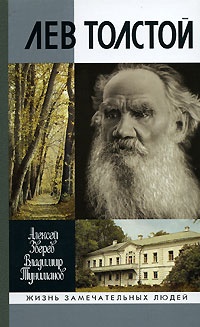
Комментарии