Дмитрий Мережковский - Юрий Зобнин Страница 21
Дмитрий Мережковский - Юрий Зобнин читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Потом она будет писать несколько иначе – и опыт семейной жизни с «поэтом» немало посодействует тому:
«Я уже больше не ребенок, наивный, избалованный, податливый и мягкий», – напишет Гиппиус в одном из писем начала 1893 года. И все же именно этого «наивного ребенка», а точнее – провинциальную русскую барышню с детской верой в сказку, – она будет всеми отпущенными ей свыше силами, человеческими и поэтическими, отстаивать в себе всю жизнь. Пушкинская Татьяна будет надежно скрыта у нее за спасительными масками «декадентской мадонны», «белой дьяволицы» et cet. – для того, чтобы при первом знаке ослепительной надежды явиться вдруг вновь и вновь – бесплодно, смешно и страшно. «Неужели надо мной никто не сжалится, ну Бог, что ли, и не пошлет мне, моему физически больному сердцу два-три тихих месяца, без историй, без мучительств, без всяких оскорблений жизни!» – в ужасе восклицает она, оказавшись в очередной раз в пошлейшем и глупейшем положении. «Легче скорей умереть, чем тут задыхаться от зловония, от того, что идет от людей, окружает меня – и даже не окружает, – довольно, если я знаю… Любовь! Я потратила все силы, чтобы найти тень этого чуда. И когда все истратила, то поняла, что напрасно искала, потому что ее нет. Нет – или есть, как Бога нет или есть».
Увы! Следует признать, что первой в ряду «оскорблений жизни» для Гиппиус, не умевшей – коль скоро речь идет о любви – не воображать себя «Клариссой, Юлией, Дельфиной», стала «боржомская история» 1888 года, ибо:
Между тем «утренние прогулки вглубь ущелья, почти уже мирные, всегда интересные разговоры» постепенно, как бы помимо желания обоих «собеседников», переходили в нечто большее, нежели просто «знакомство». Впоследствии и Мережковский, и Гиппиус будут говорить о «провиденциальном» характере происшедшего. Сама судьба довлеет над их поступками – они только сомнамбулически подчиняются неумолимому ходу вещей. «Она уже бывала, и не раз, влюблена, – комментирует воспоминания Гиппиус В. А. Злобин, – знала что это, а ведь тут совсем что-то другое. Она так и говорит: „И вот, в первый раз с Мережковским здесь у меня случилось что-то совсем ни на что не похожее“».
Это «ни на что не похожее» происходит само собой 11 июля 1888 года. Лунной ночью, во время детского танцевального вечера в боржомской ротонде, она и Мережковский как-то незаметно оказываются вдвоем на дорожке парка, на берегу Боржомки. «Я не могу припомнить, как начался наш странный разговор, – описывает она эту достопамятную ночную прогулку. – Самое странное – это, что он мне тогда не показался странным. Мне уже не раз делали, как говорится, „предложение“, еще того чаще я слышала „объяснения в любви“. Но тут не было ни „предложения“, ни „объяснения“. Мы, и, главное, оба – вдруг стали разговаривать так, как будто давно уже было решено, что мы женимся и что это будет хорошо».
Почти полгода – вплоть до венчания в январе 1889-го – она находится в состоянии «не то спокойствия, не то отупения», события происходят без всякого участия ее воли, «как во сне». Мережковский же, решив так неожиданно и скоро судьбу свою, счастливо избегает совсем уж романтической «кавказской дуэли» (которую ему предложил было отвергнутый Якобсон), уже на правах жениха входит в семью избранницы, в сентябре провожает всех в Тифлис и оттуда отправляется в Петербург устраивать дела ввиду предстоящей свадьбы. Особой уверенности в благополучном исходе он не испытывал, поскольку реакцию Сергея Ивановича на подобную самодеятельность младшего сына (двадцати трех лет и без определенных видов на будущее; невеста же, едва достигшая девятнадцати лет, являла собою классический образчик «бесприданницы») нетрудно было себе представить. Надежда была на мать («Будет тебе твоя цаца!» – пообещала сыну Варвара Васильевна). И ей действительно после длительных «переговоров» удалось уломать мужа благословить молодых и, главное, дать несколько тысяч «на обзаведение».
В конце ноября – раньше намеченного – Мережковский возвращается «со щитом» в Тифлис. 8 января 1889 года в тифлисской церкви Михаила Архангела состоялось венчание.
«Постороннего народа почти не было, зато были яркие и длинные солнечные лучи верхних окон на всю церковь, – пишет Гиппиус. – На розовую подстилку мы вступили вместе… Когда давали нам пить из одного сосуда поочередно, я во второй раз хотела кончить, но священник испуганно прошептал: „Не все! Не все!“ – кончить должен был жених. После этого церемония продолжалась с той же быстротой, и вот – мы уже на паперти, разговариваем со свидетелями.
– Мне кажется, что ничего и не произошло особенного, – говорю я одному.
Тот смеется.
– Ну нет, очень-таки произошло, и серьезное!»
* * *
Уже в сознании современников образ Мережковского утратил, так сказать, жизненную конкретику, застыв известным «кабинетным» фотопортретом «на фоне Распятия», рядом с массивными фолиантами на циклопических книжных полках, с раскрытой книгой в руках, – портретом парадным, конечно, нарочно и сделанным для «презентативной» цели (им иллюстрировались раздел материалов о Мережковском в венгеровской «Русской литературе XX века» и целый ряд прижизненных публикаций). Нельзя, впрочем, сказать, чтобы «прочтение» этого портрета говорило безусловно в пользу героя: роль «кабинетного мыслителя», почтенная в благополучной Европе, в России, как правило, особого сочувствия не вызывает. Так, например, К. И. Чуковский трактовал Мережковского как «книжника», которому «до страшных пределов чужда душа человеческая и человеческая личность», а Иванов-Разумник и вовсе объявил его… «мертвым писателем», «великим мертвецом русской литературы, душу которого все больше и больше подтачивает гробовой червяк». Последнее определение, конечно, даже и для недоброжелателя слишком забористо, но, хотя бы и исключая критические оценки радикального характера, мы не можем не признать: ни собственно человека, ни, тем более, человека страдающего современники в Мережковском не разглядели и по-человечески же ему не верили.
Для самого Мережковского подобное положение вещей, больно задевавшее его в первые годы литературной деятельности как некое досадное «недоразумение», со временем превратилось в то, что можно назвать «привычной трагедией». Причем в первую очередь он был склонен винить в этом себя.
«Я страшно стыдлив, неимоверно робок, до глупого застенчив, – сокрушенно признается он в одном из писем самого „лирического“ из его эпистолярных циклов – переписке с Л. Н. Вилькиной. – И от этого происходит то, что Вам кажется моей неискренностью. О самом моем глубоком я совсем, совсем не могу говорить». «Я чувствую, – продолжает он ту же тему в другом письме, – что мог бы сделаться „неосторожным“ и даже, пожалуй, „беззащитным“. Но для этого нужно, чтобы Вы мне поверили, второе – чтобы Вы поверили в меня, в мое существование, поверили, что я есть. А до сих пор Вы в это не верили. Вы писали мне, что меня совсем не знаете. Почему же Вы не хотите узнать меня? Неужели я так мало любопытен, даже помимо моего отношения к Вам, просто как человек, ну хотя бы просто как писатель? Поймите, я хочу, чтобы Вы увидели меня, а для этого нужно посмотреть на меня. Вы же до сих пор смотрели мимо меня, сквозь меня – на другое, что за мною. Я для Вас – пустое место. Это грустно…»
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

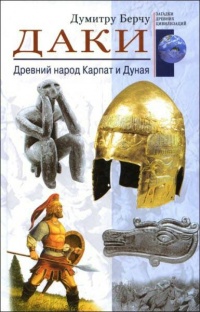
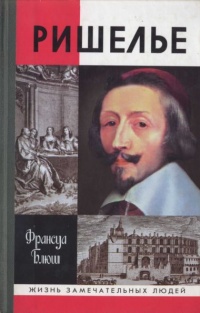

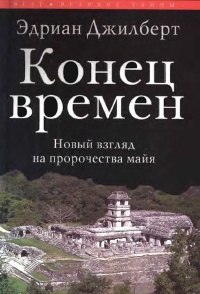
Комментарии