Борис Пастернак - Дмитрий Быков Страница 21
Борис Пастернак - Дмитрий Быков читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Рубинштейн объяснил недоверчивому профессору, что отец странного студента — «знаменитость и что еврейство <его> вполне безупречно», писал Пастернак отцу. Вся эта история с портретом — очень пастернаковская: неловкость на пустом месте, избыток любви с одной стороны и чинное, сановное недоверие с другой. Бориса, однако, более всего задело не то, что Коген заподозрил корысть в его отце, знаменитом и не самом бедном московском художнике,— а именно кастовое и в сущности пошлое нежелание позировать никому, кроме еврея. Все это Пастернака коробило.
«Что-то мне во всем этом несимпатично (…). Ни ты, ни я,— писал он отцу,— мы не евреи; хотя мы не только добровольно и без всякой тени мученичества несем все, на что нас обязывает это счастье (…), не только несем, но я буду нести и считаю избавление от этого низостью; но нисколько от этого мне не ближе еврейство. Да делай, как знаешь».
Эта же тема заложничества всплывет в письмах и размышлениях Пастернака не раз и не два: ниже мы процитируем его написанное пятнадцать лет спустя письмо к жене, где он будет сетовать на ту же необходимость разделять ответственность за кастовую узость и бескультурье, и письмо 1935 года к Ольге Петровской (Силловой), где он мечтает о возможности вписать в паспорт вместо условных и приблизительных внешних характеристик — год рождения, национальность и т.д.— что-то более существенное, говорящее о его мировоззрении. Он никогда не отрицал своего еврейства, не унижался до конформизма, не примазывался к чужой культуре, в чем нет-нет да и упрекнут его некоторые исследователи из числа как русских, так и еврейских националистов; он в первую очередь готов был нести все тяготы, вызванные его еврейством, и отказывался только от преимуществ, которые оно сулило. Точно так же он открещивался бы от любой другой касты — семейной, дворовой, земляческой: ему претило всякое разделение по имманентному признаку. Только то, что было результатом личного выбора (всегда драматичного), казалось ему достаточным критерием.
Герман Коген был представителем южногерманского неокантианства, уютного, либерального, предельно субъективного (Ленин его презрительно называл «критикой Канта справа»). Сам Пастернак в «Грамоте» характеризовал школу Когена так:
«Марбургское направленье покоряло меня двумя особенностями. Во-первых, оно было самобытно, перерывало все до основания и строило на чистом месте. (…) Не подчиненная терминологической инерции Марбургская школа обращалась к первоисточникам… Если ходячая философия говорит о том, что думает тот или другой писатель, а ходячая психология — о том, как думает средний человек, если формальная логика учит, как надо думать в булочной, чтобы не обсчитаться сдачей, то Марбургскую школу интересовало, как думает наука в ее двадцатипятивековом непрекращающемся авторстве, у горячих начал и истоков мировых открытий. (…) Вторая особенность Марбургской школы… заключалась в ее разборчивом и взыскательном отношении к историческому наследству. (…) Историю в Марбурге знали в совершенстве и не уставали тащить сокровище за сокровищем из архивов итальянского Возрождения, французского и шотландского рационализма и других плохо изученных школ. (…) Обе эти черты самостоятельности и историзма ничего не говорят о содержании Когеновой системы, но я не собирался да и не взялся бы говорить о ее существе».
Здесь не место углубляться в эту систему (тем более что таких систем в немецкой философии — столько же, сколько профессоров): в самом общем виде — поздний Коген занимался в основном философией права, исследовал тему «самосознания государства», то есть мыслил государство как инструмент самопознания нации. Высшим проявлением нравственности ему представлялось стремление к идеальному государственному устройству — недостижимому, как истина; больше всего это утопическое государство, где права личности были неприкосновенны и притом всех объединяла общая цель, напоминало Марбург, где он профессорствовал тридцать шесть лет, став его главной достопримечательностью. Этика, по Когену,— рациональная основа воли, а право — юридическое выражение этики, регулятор соотношения между общественным благом и личной свободой. Философия права Пастернака волновала меньше, ему важны были именно актуализация исторического контекста, живое отношение к истории мысли. Его он в Марбурге нашел — но за этим, собственно, не стоило ездить в Марбург: оживлять историю он умел и сам — в той мере, в какой это соответствовало его эстетическим надобностям,— а посвящать жизнь «забытым и плохо изученным школам» не собирался.
Наконец, в середине июня случился в его жизни еще один разрыв: определились отношения с Идой Высоцкой. Ее младшая сестра Лена, кстати, ценила Пастернака куда выше, чем энигматичная Ида. Сестры приехали в Марбург 12 июня и пробыли там четыре дня.
2
Описание этих дней в «Охранной грамоте» смазано — «их видели со мной на лекции», то есть сам автор не помнит, что было; Высоцкие подробных свидетельств не оставили. Между тем эти дни — с 12 по 16 июня 1912 года — относятся к переломным в биографии Пастернака. Он сам чувствовал, что стоял на пороге чуда,— и полагал, что чудо могло совершиться, найди он отклик в душе старшей Высоцкой. В шестнадцатом году он писал отцу, что
«вся природа этому сочувствовала и на это благословляла… и это было безотчетно, скоропостижно и лаконично, как здоровье и болезнь, как вождение и смерть».
Эту минуту
«проворонил… глупый и незрелый инстинкт той, которая могла стать обладательницей не только личного счастья, но счастья всей живой природы в этот и в следующие часы, месяцы и, может быть,— годы»…
Счастье всей живой природы досталось Елене Виноград, которая тоже не приняла Пастернака и отвергла его — но по крайней мере знала ему цену.
Насчет месяцев и особенно лет — явное преувеличение постфактум; Ида Высоцкая никогда не стала бы Пастернаку женой, а тем более хорошей — мешали социальные, душевные, возрастные пропасти, и он слишком был умен, чтобы этого не понимать. Вспоминая ее несколько лет спустя, Пастернак искренне недоумевал, как он мог до такой степени ею заболеть — конечно, Марбург виноват…
«Утром, войдя в гостиницу, я столкнулся с младшей из сестер в коридоре. Взглянув на меня и что-то сообразив, она не здороваясь отступила назад и заперлась у себя в номере. Я прошел к старшей и, страшно волнуясь, сказал, что дальше так продолжаться не может и я прошу ее решить мою судьбу. Нового в этом, кроме одной настоятельности, ничего не было. Она поднялась со стула, пятясь назад перед явностью моего волнения, которое как бы наступало на нее. Вдруг у стены она вспомнила, что есть на свете способ прекратить все это разом, и — отказала мне. Вскоре в коридоре поднялся шум. Это поволокли сундук из соседнего номера».
Трудно представить себе Пастернака, делающего предложение; еще труднее представить, что он его действительно делал, да еще в традиционной форме… «Быть моею женой», как с трудом выговорил Левин… Вероятно, он и в номере Иды нес что-нибудь путаное — вроде «Так дальше продолжаться не может», и потом — потоком — что именно не может продолжаться; едва ли она даже поняла, что это было предложение, и отказ он угадал, скорее всего, по полному непониманию его намерений. Судя по письму Пастернака к Штиху от 17 июля,— она только и смогла пролепетать что-то вроде «было необдуманно, не испытывая того же, вырастать так долго вместе» — то есть она сама виновата, что давала ему неосновательные надежды… в общем, пусть он ее простит.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
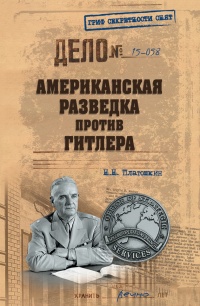
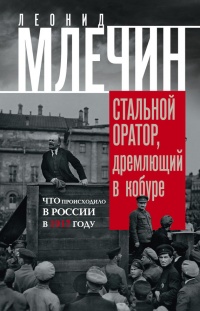
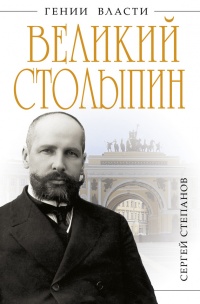

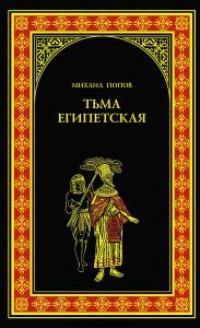
Комментарии