Хорошо посидели! - Даниил Аль Страница 20
Хорошо посидели! - Даниил Аль читать онлайн бесплатно
Да, отношение к вопросу: не признать ли политзаключенного психически больным — в то, сталинское время и в более позднее — брежневское, было абсолютно различным. В сталинское время НКВД — МГБ ни за что не хотело отдавать свою «добычу» — человека, арестованного по политической статье. Ни на свободу, поэтому не освобождали даже при полном провале плохо состряпанного дела (как, например, моего дела), ни медицине, даже если подследственный был явно болен (как, например, Степанов). И это понятно. Количество разоблаченных врагов — было главным показателем для положительной оценки работы «органов». Случаев «брака» — необоснованных арестов или «разоблачения» в качестве политического врага больного человека — не должно было быть. Обмишуриться таким образом ни один уполномоченный, ни один следователь не хотел! Поэтому психиатрическая экспертиза в тюремной больнице, на которую иногда следователи вынуждены были направлять своих подопечных, например, по постановлению суда, как правило, одинаково «успешно» разоблачала и симулянтов и действительно больных.
В брежневские времена, под влиянием мирового общественного мнения и в результате подписания Советским Союзом Хельсинских и прочих соглашений о правах человека, наличие у нас в стране политических заключенных стали вообще отрицать или в лучшем случае сводить к минимуму. Ситуация тотчас переменилась. Если раньше какой-то процент обвиняемых симулировал сумасшествие в надежде избежать осуждения, то теперь само государство начало симулировать сумасшествие своих граждан, которых оно хотело изолировать без того, чтобы увеличивать число политзаключенных. С этой целью, как известно, психиатрическая экспертиза начала признавать психически больными совершенно здоровых людей.
После моего заключения в 66-ю камеру прошло два или три дня томительного ожидания. За это время побывали на допросах Берстенев и Ефимов. Каждый раз, когда гремел ключ, я вздрагивал, устремляя взгляд на надзирателя, появлявшегося в дверях.
Было странное ощущение. Мне хотелось, чтобы меня скорее вызвали на допрос, хотелось, чтобы скорее кончилась неопределенность, чтобы что-то прояснилось. Но когда открывалась дверь, невольно охватывало недоброе волнение, попросту говоря, страх. А когда выяснялось, что пришли не за мной, становилось легче.
После отбоя я подолгу не мог заснуть. Да и не очень к этому стремился. Днем в камере трудно думать. Разговоры редко прерывались. Разве что для чтения. Но читать помногу нельзя, хочется растянуть скудную книжную «пайку» наподобие хлебной или сахарной.
После отбоя, лежа на койке, я мог спокойно поразмышлять. Я заставлял себя думать о предстоящих допросах, готовился к ним. Без конца, как теперь говорят, проигрывал свою борьбу с воображаемым пока следователем, который будет стараться изобличать меня в разговорах, которых я не вел, в преступлениях, которых я не совершал.
Почти весь прошедший год, с марта сорок девятого, после сообщений, полученных мною от абсолютно откровенного Ваганова и явно мутившего воду К., я готовился к обороне против ложных обвинений на следствии. Так, например, Ваганов сказал мне, что его допрашивали о написанной мною «антисоветской» поэме о Гуковском. Профессор истфака Матвей Александрович Гуковский — брат знаменитого литературоведа профессора Григория Гуковского — и сам был известным ученым-медиевистом. Этот исключительно знающий и интересный человек имел весьма смешной вид. Он был очень маленького роста, с большой шишкой на лысине. До войны он потряс весь наш факультет женитьбой на юной красавице, студентке второго курса Скворцовой. В послевоенном университете профессор М. А. Гуковский был проректором по аспирантуре при знаменитом ректоре — Вознесенском, которого студенты называли «папа», «папаша».
Гуковский, прекрасно знавший меня по довоенному истфаку, по научному кружку, по моим публикациям студенческих лет, тем не менее, вынужден был (я подчеркиваю эти слова) отказать мне в приеме в университетскую аспирантуру, хотя прекрасно знал, что составить мне конкуренцию по уровню подготовленности к дальнейшей научной работе в тот момент никто не мог.
Основываясь на этом сюжете, я написал абсолютно шуточную «Поэму о Гуковском». Она начиналась словами:
Дальше (сейчас некоторые строки уже забылись) говорилось, что «Матвей» решил жениться, чтобы обрести потомство:
В поэме в юмористическом плане был изображен ректор университета Вознесенский — всесильный владыка — «Папаша», декан нашего факультета профессор Мавродин и профессор Корнатовский.
Из слов Ваганова я понял, что «Поэму о Гуковском» собираются мне инкриминировать как антисоветскую. Понимая, что это легче всего сделать, если рассуждать на уровне оценок и ярлыков, при отсутствии самого текста, я решил помешать подобному истолкованию в общем-то невинной, с точки зрения политической, шутки. Перепечатав «Поэму» в нескольких экземплярах, положил один из них в ящик своего стола на работе, в Отделе рукописей, другой — у себя на письменном столе дома, а третий держал постоянно во внутреннем кармане пиджака. Мой расчет оправдался. Читая свое дело после окончания следствия, я увидел три протокола обыска, составленных — один на моем рабочем месте в мое отсутствие, один у меня в комнате майором Яшоком также в мое отсутствие, и третий — при моем поступлении в тюрьму. Во всех трех значилась «Поэма о Гуковском». И поскольку текст ее оснований для обвинения в антисоветской агитации не давал, «Поэма» на допросах во время следствия не фигурировала. Спасибо Олегу Ваганову и за это!
Все месяцы, в течение которых я ожидал ареста, я тщательно изучал Уголовно-процессуальный кодекс и комментарии к нему. Я хотел досконально знать свои права, что я имею право требовать от следствия по закону. Как читатель увидит в дальнейшем, я доставил немало хлопот своим следователям, требуя, со ссылкой на УПК, выполнения ими целого ряда моих требований. Я составил для себя целый список авторитетных лиц, которых намеревался вызвать в качестве свидетелей, способных подтвердить мою абсолютную лояльность. Словом, я активно готовился себя защищать. Теперь, лежа на тюремном топчане, зажмуривая глаза от яркого света голой, без всякого колпачка лампочки под потолком, я снова и снова вспоминал все, что уже обдумывал раньше. Я старался настроить себя на предельную неподатливость и твердость, приготовиться к нелегкому и опасному бою. Как говорили в Древней Руси — укрепиться духом, «исполчиться».
Мысли о предстоящих допросах мешались с другими. Я тяжело страдал от разлуки с женой и сыном, очень тревожился за их судьбу. Меня не оставляла тяжелая, неизбывная обида на свою судьбу, на постигшее меня несчастье. Тяжело было думать и о разлуке с любимой работой, так успешно начавшейся. Вспоминались война, фронт, мечты о прекрасной жизни после войны. Вспоминались друзья. Я пытался представить себе — кто, что говорит о моем аресте. Я не сомневался в том, что целый ряд сотрудников Публичной библиотеки злорадствуют по этому поводу. Но знал и то, что многим искренне жаль меня. Тяжело было думать о том, что совсем рядом за стенами тюрьмы продолжается обычная жизнь — ходят трамваи, спешат прохожие, работают театры, крутится кино. Как обычно идет жизнь в Отделе рукописей.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.



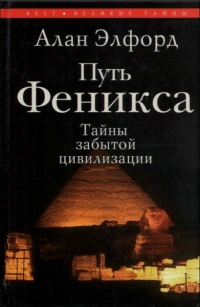
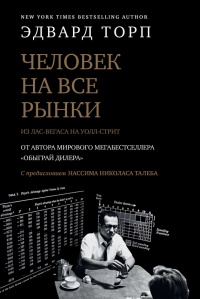
Комментарии