Ноев ковчег писателей - Наталья Громова Страница 18
Ноев ковчег писателей - Наталья Громова читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
А одна из сестер Синяковых, Надежда, писала в сентябре 1941 года в Москву близкому приятелю – писателю М. А. Левашову:
Милый Гулливер! <…> Живем мы хорошо. Мне здесь нравится, люди симпатичные, половина татар. Скучать некогда. Нас постигло несчастье, Цветаева лишила себя жизни, она повесилась.
Печально, очень ее жаль. По вечерам Коля читает ее великолепные стихи. Ее сын здесь живет в общежитии пионеров [69].
Мур стал заметной фигурой в Чистополе, о нем вспоминали многие. Трагическая судьба гениальной матери, его облик, так непохожий на окружающих – все привлекало к нему внимание взрослых, мальчиков и девочек. Юная Гедда Шор, бывшая в старшей группе школы-интерната, вспоминала, что влюбилась в него с первого взгляда.
Шел сентябрь сорок первого. Мы с Юрой Арго гуляли по Чистополю. <…> Мы с Юрой дружно смеялись, подходя к интернату. И тут я увидела идущего впереди нас молодого человека, незнакомого и явно нездешнего. Трудно понять, как я, глядя ему в затылок, сразу наповал влюбилась. “Кто это?” – испуганно спросила Юру. “Как, разве ты не знаешь? Цветаева… Елабуга… Ее сын Мур… ” Дальше я уже ничего не слышала. Мы продолжали идти вслед за Муром, расстояние между нами не сокращалось <…>.
В Чистополе Мур прожил недолго. Добрая Анна Зиновьевна Стонова, старший педагог интерната, стараясь как можно скорей приобщить Мура к интернатской жизни, устроила своеобразные смотрины. Собрала всех старших девочек и пригласила Мура. Все чувствовали себя неловко и натянуто, общего разговора не получалось. Мур высокомерно молчал. Пытаясь спасти положение, Анна Зиновьевна сказала: “Мур, почитайте нам стихи вашей матери”. – “Я их не знаю”, – ледяным тоном ответил Мур, даже с каким-то вызовом. Между смертью Цветаевой и предложением, сделанным ее сыну, – “почитать стихи” – прошло всего несколько дней. Стонова не совершила бы такой бестактности, если бы не была сбита с толку самим Муром: его царственное высокомерие дезориентировало в такой степени, что, казалось, перед нами сидел не осиротевший (так страшно) мальчик, а самоуверенный красавец, сын знаменитой Цветаевой, милостиво разрешающий на себя смотреть… Стонова обращалась к нему на “вы”. Это было беспрецедентно: всем детям говорили “ты”. Но, обращаясь к Муру, взрослые не могли избежать интонации придворного учителя, говорящего с королем-школьником: “Ваше Величество, Вы еще не приготовили уроки”.
Мур казался совершенно взрослым. Так бывает с особенно породистыми детьми. Красота Мура была прежде всего красотой породы. Он был высок ростом, великолепно сложен. Большелобый и большеглазый, смотрел как-то чересчур прямо и беспощадно. Потом уже поняла: это был взгляд “рокового мужчины”, каковым он и был, должен был стать – кстати говоря, без всяких кавычек. Сегодня назвала бы его римлянином. Было в его взгляде много ума, надменности и силы. Сверстники до такой степени не были ему ровней, что ощущение собственного превосходства было неизбежно. Это прошло бы с возрастом. Тогда я только невнятно чувствовала, теперь знаю: достоинство, трансформированное несчастьем, часто выглядит высокомерием. (Все эти рассуждения не имеют никакого отношения к высокомерию злокачественному – уделу низкопробных душ нуворишей, сливколизателей и снобов.)
В те страшные, военные дни осени сорок первого мы все, от мала до велика, слушали сводки Совинформбюро. Но никто из детей не слушал их так, как слушал их Мур. Спросили бы меня тогда, как это “так”, – я бы не сумела ответить. Так слушали сводки раненые в госпитале. Потом я это увидела и сразу узнала. Узнала Мура, но не нашла слово. Сегодня это слово знаю: причастность. Что делало его причастнее сверстников, которым, как и ему, предстоял фронт? Его зрелость, опережающая возраст? Трагедия семьи, неотступное злосчастие, взорвавшееся самоубийством матери? Он, как те раненые в госпитале, уже был ранен.
Все это сегодняшние мысли. А тогда… Мур стоял под репродуктором в коридоре, прислонившись к стене, подавшись корпусом вперед, обе руки заведя за спину. Взгляд исподлобья, слушающий. Высокие брови, подпирающие тяжелый лоб. Стоя у противоположной стены узкого коридора напротив Мура, я смотрела на него: светлые глаза в черном ободке – как мишень, подумала я и страшно испугалась возникшего сравнения. Мур изумлял меня выбором своих общений со сверстниками: какое-то нарочитое упрощение, прямая ориентация на “спортсмедные лбы”. Один-единственный раз я видела, как он смеется [70].
Те двадцать дней, которые Мур был в интернате, он успел подружиться с Тимуром Гайдаром, как он сам об этом пишет, там было множество детей знаменитостей. Дети Зинаиды Пастернак – Леня и Станислав Нейгауз, ночью играющий на разбитом рояле, чтобы не потерять музыкальную форму.
Жизнь интерната только налаживается: средства, власть Хохлова – директора дома. Спустя несколько месяцев, в начале 1942 года, мальчики-подростки напишут горестное письмо
Фадееву в Москву о внутренней жизни детского учреждения; письмо коллективного Ваньки Жукова. А пока директор Литфонда Хмара предлагает Муру выехать в Москву. Рассказывает, что там открыты школы, говорит, что Союз писателей непременно ему поможет.
Дневники Мура можно было бы в традиции XVIII века назвать “Необычайная жизнь и злоключения Георгия Эфрона, сына знаменитого поэта Марины Цветаевой и неудачного агента советской разведки Сергея Эфрона, его приключения, рассказанные им самим”.
Трудно представить, что претерпел 16-летний подросток на дорогах эвакуации и войны. Выехал из Москвы в августе; тяжкий путь до Елабуги, где пережил смерть матери; приехал в Чистополь; затем попал снова в Москву до начала октября, когда все оттуда бежали, “добрые” дяди из писателей и писательского окружения послали его туда, чтобы он не мозолил глаза в Чистополе; Москва и через две недели эвакуация в Ташкент; унизительная тяжкая жизнь в Средней Азии, и снова Москва; три месяца учебы в Литинституте; фронт и гибель… Все, что можно было пройти, он прошел.
А Чистополь в эти дни озабочен заготовкой дров. Сводками информбюро. Хроникер Виноградов-Мамонт пишет в дневниках:
18 сентября. Четверг. <… > Целый день прошел в суете. Дрова, дрова и дрова – вот что в мыслях и “в ногах”, ибо ногами измерил пол-Чистополя по разным учреждениям. В 5 ч. у моего окна постоял Д. В. Петровский. Собирается в Казань – тоже хлопотать о дровах для Литфонда <…>. Днем шел дождь – я ходил в белых брюках – как гусь! Но гусиное настроение мое объясняется просто – жалею суконные брюки! Холод завернул такой, что хоть печку топи. Чистопольцы уже вытащили теплые вещи. Словом – зима на носу. Ну, что ж.
19 сентября. Пятница. Проснулся в шестом часу. Радио прохрипело: “Ожесточенные бои под Киевом… Противник прорвался на окраине Киева… ” Тяжелые известия… Открыл окно: на улице холод, дождь, грязь. <… > Утром ходил в музей, на лесопильный завод, рассказал там о московских бомбежках <… > в горсовете у Тверяковой, в банке, в райкоме (шел разговор о сборе теплых вещей для Кр<асной> Армии). Вернулся домой в три часа и опять разговаривал о форсунках, опилках и других “дровяных” материях <…>. В 6 ч. пошел на собрание “руководителей учреждений”. Увидел секретаря райкома Воробьева, плотного, широкоплечего человека с бритой головой. Говорил повелительно, с нервом <…>. Сообщили о выдаче сахара, о теплых вещах, о дровах и пр. Словом, я вхожу в “государственную” работу <…>.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
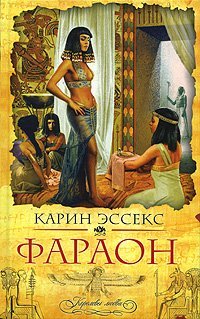
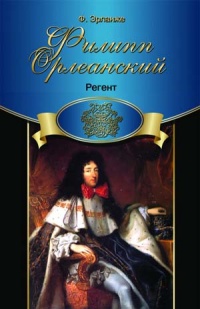


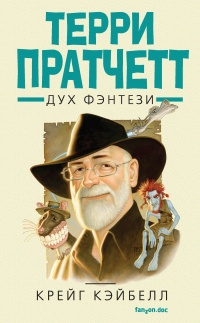
Комментарии