Всего один век. Хроника моей жизни - Маргарита Былинкина Страница 18
Всего один век. Хроника моей жизни - Маргарита Былинкина читать онлайн бесплатно
Следующей моей летней станцией была платформа Снегири по Рижской железной дороге. Деревня Крюково, река Истра, 32-й год. Мне шесть лет.
Это лето было насыщено запахами, двумя деревенскими запахами, которых не было и не могло быть в дачном поселке. Вот они: влажный, чуть приторный дух белых болотных цветов, сквозь заросли которых пробивалась к реке тропинка, и солнечный, жаркий аромат сена в сарае на сеновале, где ребята с визгом прыгали вниз с высокой копны.
В этом году особенно остро стал ощущаться — после отмены НЭПа — недостаток в продуктах, в одежде, во всем. Это время в истории страны будет названо жестоким периодом ранней Советской империи. Однако всего этого — стараниями мамы — я не слишком замечала. Кроме того, у меня появились свои первые детские заботы и печали.
На этот раз мы жили довольно далеко от станции Снегири, рядом с рекой Истрой, в обычном деревенском доме. Всю вторую половину лета мама часто куда-то уезжала на поезде. Со мной дома оставалась Настя, шустрая, но нерасторопная добрая женщина, которая, как и многие колхозницы того голодного времени, перебралась в город, чтобы прокормить оставшихся в деревне своих детей. У нее было двое мальчишек, Ленька и Миша.
…Мама возвращалась к вечеру и ходила со мной к речке, таща меня иной раз на закорках. В пяти- шестилетнем возрасте я часто болела: то кровь носом шла, то голова от боли разламывалась, то коклюш душил кашлем.
Как позже выяснилось, мама разрывалась между своим хворым ребятенком в Снегирях и умиравшей в Тушино Неонилой Тимофеевной. Лишь позже, осенью, в Москве она мне сказала: «Наша бабушка умерла». Мы вместе поплакали, но я скоро утешилась: главное, моя мамочка со мной…
Неонила Тимофеевна Березовская (по-домашнему Нила Тимофевна) скончалась пятидесяти семи лет от рака желудка на руках дочерей — Лиды и Маруси, пережив Александра Иосифовича на 20 лет. Ее любимый сын Шура, вернувшийся из армии, на похороны не пришел. В тот день он лежал в жару, подхватив грипп-«испанку». Он умер через три дня после похорон матери. Она взяла своего любимца с собой.
Года через два мама повезла меня к бабушке на кладбище в Тушино. Но ее могилы там больше не было. Тушинское кладбище сровняли с землей под какое-то строительство, кажется под аэродром.
В то же самое лето мы с мамой принимали гостью, чей визит, хотя я, понятно, этого не знала, будет иметь отношение к дальнейшей жизни нашей семьи. Отец проводил отпуск с нами на даче, но в тот день куда-то отлучился. И вот к нам на дачу явилась, ничтоже сумняшеся, некая Маня Пушкина, лаборантка с Газового завода, якобы привезшая отцу какие-то срочные бумаги. Мама, видимо, сразу поняла (или уже знала?), кто такая эта худосочная дева с вставными железными зубами и бегающим взором, которая при том старалась казаться милой и любезной.
Мне, конечно, в голову не приходило, что она приехала оценить жену, посмотреть на дочь и на наш домашний мир, но в душе поселилось — или передалось от мамы — неосознанное беспокойство, стало реальнее ощущение напряженности, витающей в наших стенах.
* * *
Лето 1933 года в селе Звягино на реке Клязьма подарило мне один интересный навык и еще одно удивительное впечатление.
Во-первых, я в совершенстве постигла игру, которая вдруг открылась мне во всей своей спортивной азартной сути. Я научилась виртуозно направлять, делать крутые повороты, тормозить и бешено разгонять… обруч. Нет, не просто деревянный обруч, который детишки, неуклюже колотя его палочкой, гоняют по прямой. У нас были классные обручи — невесть откуда взявшиеся железные обода от бочки, которые пружинили на ходу и разворачивались в любую сторону, чутко повинуясь палке в руке лихачей, мчавшихся по извилистым дорожкам сада. Гонки доставляли несказанное удовольствие от быстрого движения и собственной ловкости. Ни до, ни после, ни за границей мне не встречалось ничего похожего на этот замечательный спортинвентарь.
Что касается второго впечатления, то оно было иного, созерцательного плана.
Во время одной вечерней прогулки мы — мама, отец, я — оказались в какой-то дальней деревне на берегу Клязьмы. Сели отдохнуть на лавочку возле избы над крутым высоким обрывом. На другом берегу реки темнел лес, за его зубчатую кайму медленно сползало очень большое красное солнце. И вдруг откуда-то из лесу донесся колокольный звон, меланхоличный, переливчатый, нереальный.
Эту волшебную, тревожную атмосферу того вечера доныне воскрешает для меня песнь «Вечерний звон»…
В том же 33-м году на меня, семилетнюю, свалилась большая женская радость. Мне купили красивые туфли. Не просто красивые, а необыкновенные туфельки: белые, парусиновые, с перепоночкой и синей каемочкой вдоль всей резиновой подошвы. Мама и себе купила такие же, только размером побольше. Кроме обуви она принесла в сумке сливочное масло и сосиски, которых не было в продмагах. Для этих роскошных даров ей пришлось отнести в Торгсин золотую цепочку от моего нательного крестика, потому что обручальных колец у родителей уже не было. Слово «Торгсин» (всего-навсего — «Торговля с иностранцами») стало для меня символом изобилия, обозначением пещеры Али-Бабы с несметными сокровищами. Вот только «сезам» не часто открывался.
В начале 30-х годов масса людей несла в Торгсин свое последнее золотишко на потребу Молоху, который не столько заглатывал валюты считанных иностранцев, сколько слизывал остатки «богатства» обобранных горожан. У кого не было золотых вещиц, несли серебряные подстаканники. У кого не было ни того, ни другого, выручала смекалка русских умельцев.
Отец собирал еще встречавшиеся в обиходе серебряные рубли 24-го года, выпущенные на смерть Ленина и на радость трудящимся, и плавил их в тигле заводской лаборатории, а потом через Торгсин возвращал государству, получая от него на хлеб с маслом.
* * *
В Перловку и на Клязьму весь дачный скарб отправлялся на телеге с лошадью. На подводу грузились чемоданы, мешки с кастрюлями и горшками и, самое главное, две огромные бутыли с керосином для примуса. Пока понурый битюг со всем этим великолепием и восседавшей на возу Настей тащился часа три по Ярославскому шоссе, мы с мамой добирались до места электричкой.
В последующие годы отец брал на своем заводе грузовичок, и мы с комфортом отправлялись в путь на грохочущей полуторке марки «АМО». Мама со мной усаживалась рядом с шофером, и я зачарованно смотрела на дорогу, на плывущие мимо серые избушки и поля. Иногда нас обгонял какой-нибудь большой грузовик, и тогда мы тоже поддавали жару. Шоссе было свободно во всю свою узкую ширь, и можно было нестись со скоростью не менее сорока километров в час. С 36-го года на грузовике марки «ЗИС» (завод имени Сталина) мы ехали еще быстрее.
Среди других вещей на воз обычно водружался и короб с книгами. Верх наслаждения — сидеть у распахнутого в садик окна и упиваться «Княжной Джавахой» Л. Чарской или «Маленькой принцессой» Ф. Бернет. Позже были Майн Рид, Купер, Жюль Верн и, конечно, А. Дюма. А бесподобной приправой к чтиву были большие шоколадные ириски (по 17 коп.), в которых вязли зубы.
С детскими книгами мне несказанно повезло. Я натолкнулась на подлинную золотую жилу, случайно познакомившись с симпатичной старушкой, Зинаидой Николаевной Полтевой. Она жила с двумя взрослыми дочерьми, Галей и Ирой, в переулке близ Воронцова поля в деревянном коммунальном особнячке. Стены одной из их двух комнатушек были сплошь — от пола до потолка — уставлены полками с роскошными дореволюционными книгами для детей и юношества. При виде золотых корешков, красочных обложек, изумительных иллюстраций и вообще всех этих несметных сокровищ меня охватывало чувство дикой жадности: хотелось взвалить на себя все книги и утащить домой. Но мне — и то слава Богу — разрешалось брать для чтения не более пяти-шести книжек. При этом добрая Галя позволяла выбирать любые, а суровая Ира помалкивала, глядя на меня без энтузиазма.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

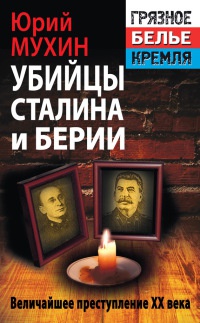

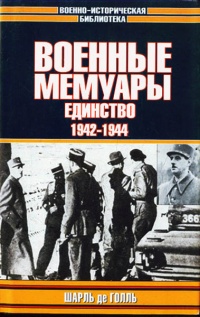

Комментарии