История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха - Себастьян Хафнер Страница 17
История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха - Себастьян Хафнер читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Несмотря ни на что, в то пятилетие в Германии ощущались приток свежего воздуха и полное отсутствие общественной лжи. Границы между классами стали тонкими и легко преодолимыми—вероятно, то был благотворный, побочный результат всеобщего обеднения. Многие студенты, не оставляя учебу, работали на заводах — и многие молодые рабочие в то же время учились, были студентами. Классовое чванство, спесь «белоподкладочников» были не в моде. Отношения между полами сделались более открытыми и свободными, чем когда-либо, —вероятно, то был благотворный, побочный результат долгих лет одичания. У нас не было презрительного превосходства, но только удивленное сочувствие к тем поколениям, что в юности находили для обожания недоступных девственниц, а для удовлетворения похоти — проституток. Наконец, даже в отношениях между нациями стали прорисовываться новые возможности, большая непринужденность, больший интерес друг к другу и искренняя радость от пестроты мира, в котором так много разных народов. Берлин тогда был интернациональным городом. Конечно, на заднем плане уже маячили отвратительные, мрачные нацистские персонажи, что с каннибальской ненавистью говорили о «восточноевропейском дерьмовом сброде» или с презрением об ««американизации»; но ««мы» — четко не определяемая часть немецкой молодежи, при первой же встрече легко узнающая своего, — «мы» были не просто дружелюбны по отношению к иностранцам; мы относились к ним с восторженным энтузиазмом: насколько интереснее, прекраснее и богаче становилась жизнь благодаря тому, что на свете живут не одни только немцы! Мы радостно принимали всех гостей Германии. Нам было не важно, приехали они добровольно, как американцы или китайцы, или были изгнаны пинками, как русские. Царили общительность, любопытствующее дружелюбие, сознательное намерение научиться лучше понимать и любить то, что тебе наиболее чуждо и непонятно; многие дружбы, многие Любови завязывались тогда и с самым Дальним Востоком, и с самым Дальним Западом.
Самые дорогие и самые прекрасные воспоминания связывают меня с таким вот отечественноинтернациональным кругом, с миниатюрным земным шариком в центре Берлина. То был маленький академический теннисный клуб, в котором мы, немцы, были представлены не больше, чем прочие нации. Как ни странно, здесь было мало французов и англичан, зато наличествовал весь остальной земной шар: американцы и скандинавы, прибалты и русские, китайцы и японцы, венгры, югославы, и даже один меланхолически-остроумный турок. Нигде больше я не встречал такой непринужденной, искренней атмосферы — разве что когда случайным, залетным гостем побывал в парижском Латинском квартале. Глубочайшая печаль охватывает меня, когда я вспоминаю те летние вечера, которые мы проводили в клубе после теннисных состязаний, часто засиживались там далеко за полночь, так и не переодевшись, устраивались в плетеных креслах, попивали вино, пошучивали, оживленно спорили. Но эти горячие споры вовсе не походили на яростные, болезненные политические дискуссии прежних и будущих лет. Порой мы прерывали беседы — играли в пинг-понг или заводили патефон и танцевали. Сколько там было беззаботности и юношеского серьеза, какие мечты о будущем, сколько заинтересованности, доверия и дружелюбия по отношению ко всему миру! Как вспомню — поневоле хватаюсь за голову; даже не знаю, что сегодня понять труднее: то, что это было в Германии каких-нибудь десять лет назад, — или то, что это могло быть так полно, так бесследно уничтожено десять лет спустя.
Это был тот круг, в котором я пережил свой самый глубокий, самый сильный опыт любви. Я полагаю, нельзя не рассказать здесь о моей любви, так как в ней была не только личная, но и более общая сторона. Конечно, это романтическая ложь, широко распространенная в прошлом столетии, будто «по-настоящему любишь только один раз», да и вообще пустое дело выстраивать табель о рангах для несравненных и несравнимых любовных переживаний, чтобы сообщить; «Вон ту или ту я любил больше, чем ту или эту». Верно другое: однажды, по большей части на двадцатом году жизни, настает момент, когда любовное переживание или любовный выбор становятся определяющими для характера и судьбы человека. И тогда в женщине любят нечто большее, чем просто вот эту самую женщюу, в ней, в женщине, любят некий аспект мироздания, некую концепцию жизни,—если угодно, идеал, но идеал, ставший живым, обретший плоть и дыхание. Преимущество двадцатилетних—полюбить в женщине то, что позднее станет путеводной звездой.
Сегодня мне приходится подыскивать слова, чтобы описать то, что я в этом мире люблю, что хотел бы сохранить любой ценой и что нельзя предавать даже под страхом адского пламени. Вот эти слова: свобода и человечность, ум, мужество, грация, остроумие и музыка: и я не уверен в том, что меня поймут правильно. А тогда мне достаточно было произнести одно только имя, даже не имя, любовное прозвище Тэдци, и я мог быть уверен, что, по крайней мере в нашем кругу, меня поймут. Мы все любили ее, обладательницу этого имени, маленькую австрийскую девушку, блондинку с медовыми волосами, веснушчатую, с легкими и быстрыми движениями. Благодаря ей мы познали ревность и отучились от ревности, из-за нее мы переживали великие комедии и маленькие трагедии. Мы были готовы петь ей гимны и дифирамбы. Она научила нас тому, что жизнь прекрасна, если ее проживают умно и мужественно, свободно и грациозно: если умеют слышать шутки жизни и ее музыку. Итак, среди нас, в нашем кругу жила богиня. Женщина, которая звалась тогда Тэдци, стала старше и проще, и, наверное, ни один из нас не сохранил прежнее, высокое чувство к ней; но то, что она была такой, какой она была, и то, что чувство к ней было таким, каким оно было, — этого не вычеркнуть. Это формировало нас сильнее, прочнее, чем какое бы то ни было «историческое событие».
Как и принято у богинь, Тэдди очень рано исчезла из нашего круга. Уже в 1930 году она уехала в Париж с твердым намерением не возвращаться в Германию. Наверное, она была первой немецкой эмигранткой. По натуре более тонкая и проницательная, чем мы, она задолго до прихода к власти Гитлера почувствовала угрожающий рост глупости и злобы в Германии.
Раз в год летом она все-таки приезжала в Берлин, но все чаще и чаще говорила нам, что дышать в стране становится тяжелее. Последний раз она приехала к нам летом 1933 года. Больше она в Германию не возвращалась.
Но уже задолго до того «мы» — неопределенное «мы», у которого не было имени, не партия, не организация и ни в коем случае не сила и не власть — составляли в Германии меньшинство. Мы тоже чувствовали наступление новых времен. Естественное ощущение всеобщего взаимопонимания, сопровождавшее нас во время войны и потом, в годы спортивной лихорадки, давно превратилось в свою противоположность, теперь мы знали, что со многими сверстниками не можем толком поговорить о чем-то серьезном, ибо мы говорим с ними на разных языках. Мы чувствовали, как вокруг растет новый язык—«коричневый немецкий»: «шчное участие»,
«гарант», «фанатично», товарищ», «род
ной клочок земли», ««чужеродный», «вырожденческое искусство», «недочеловек»,—отвратительный жаргон, в каждом словце которого заключался целый мир насильнической тупости. У нас тоже был свой особый тайный язык. Мы понимали друг друга с полуслова; если мы говорили о других, достаточно было сказать про кого-нибудь, что он «умгый», и это означало вовсе не мощный интеллект, а просто —что человек понимает, что такое личная, частная жизнь; раз он имеет об этом представление, значит, он ««наш». Мы знали, что тупиц в Германии значительно больше. Однако покуда у власти был Штреземан, можно было с некоторой уверенностью надеяться на то, что тупиц держат в узде. Мы фланировали среди тупиц беззаботно, как в современном зоопарке без клеток прогуливаются среди хищников люди, уверенные в том, что рвы и изгороди защищают их. Со своей стороны, хищники тоже ощущают нечто подобное. С глубочайшей ненавистью они дали название невидимому порядку, который при всей своей внешней свободе держит их в рамках, — «система»75. Однако им приходилось оставаться в этих рамках.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

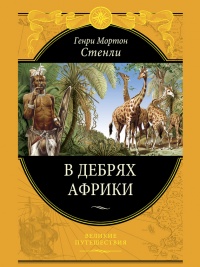
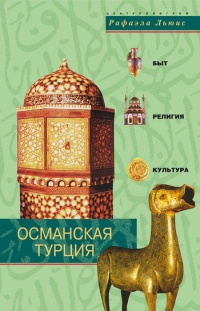


Комментарии