От Аустерлица до Парижа. Дорогами поражений и побед - Олег Гончаренко Страница 14
От Аустерлица до Парижа. Дорогами поражений и побед - Олег Гончаренко читать онлайн бесплатно
А Ростопчину не все ли равно было, кого заподозривать в измене? Ему надо было лишь запугать Александра угрозой революции, внушить к себе доверие и показать, что он один может справиться на таком важном посту в Москве, где чуть ли не половина населения состоит из «наполеонистов». Ростопчин выбирал неугодных себе лиц, с которыми и сводил таким путем личные счеты. Наиболее ярким примером в данном случае является гонение на почт-директора Ключарева, позволившего себе высказать «нелестное мнение» о Ростопчине. С другой стороны, по словам Рунича, у Ростопчина явилось подозрение, что Ключарев обнаружил его тайную переписку с Тверью. Надо Ключарева удалить под видом опасного «мартиниста». Ростопчин, впрочем, еще недостаточно уверен в своей власти, не уверен, что его авторитет твердо стоит в мнении Александра. И поэтому он просит фельдмаршала Салтыкова воздействовать на удаление Ключарева, но получает в ответ, что император полагает, что «теперь не время делать подобные перемещения».
Это был, конечно, афронт для Ростопчина. В борьбе с «мартинистами» он должен был таким образом учитывать то обстоятельство, что заподозренные им лица находились в больших чинах и занимали видные административные положения.
Александр не хотел «лишнего шума», как показывает распоряжение императора по поводу ареста доктора Сальватора, лица, близкого ростопчинскому предшественнику на московском посту гр. Гудовичу. Сальватор как раз явился жертвой иезуитской интриги. Сюрюг неоднократно жаловался на притеснения со стороны Гудовича под влиянием Сальватора, явного «революционера» и «якобинца». Дело Сальватора заставило Ростопчина шуметь еще больше о революции и таким образом найти более конкретные признаки для обвинения неприятных ему лиц. Ростопчина понемногу опьяняла власть, и он действительно хотел быть настоящим «московским властелином». Приставивши для тайного наблюдения за Ключаревым своего доверенного полицмейстера Брокера, прежде служившего в почтовом ведомстве и личного врага Ключарева, Ростопчин искал только случая, чтобы расправиться с Ключаревым. Благодаря энергии Брокера такой случай скоро представился, — это и было знаменитое в летописи московской жизни дело Верещагина.
Молодой человек из купеческой семьи, получивший для своего времени хорошее воспитание, перевел на русский язык два газетных сообщения о Наполеоне, а именно: «Письмо Наполеона к прусскому королю» и «Речь Наполеона к князьям Рейнского союза в Дрездене». Для чего было это сделано? Может быть, из простого личного любопытства, может быть, для того, чтобы познакомить «друзей» с упомянутыми газетными сообщениями. Понятно, что общество интересовалось действиями Наполеона, а между тем цензура свирепствовала и решительно не пропускала никаких сообщений из заграничной печати.
Ростопчин раздул дело Верещагина до огромных размеров, представив виновника перевода в образе злейшего злодея, составителя прокламаций. «Вы увидите, государь, — писал он Александру 30 июня, — из моего донесения к министру полиции, какого откопал я здесь злодея… Сочинитель прокламации от имени врага своего отечества и в начале войны есть изменник и государственный преступник. Не дай бог, чтобы здесь произошло волнение в народе, но если бы произошло, то я наперед уверен, что эти лицемеры — мартинисты явятся открытыми злодеями»…
3 июля в «Московских ведомостях» появилось специальное объявление о Верещагине и о вновь открытом заговоре. Таким путем создалось громкое дело, давно желанное Ростопчину; дело, при помощи которого он мог подкопаться под Ключарева. Верещагин был предан суду, и, как сообщает Рунич, ему «велено» было говорить, что он получил прокламации для списывания от одного из сыновей Ключарева [22]. В Москве раскрытие Ростопчиным злодейского покушения на целость государства вызвало с самого начала различное впечатление.
Если Глинка, преклонявшийся перед Ростопчиным и готовый верить всякой сплетне об измене, приветствовал Ростопчина даже стихами:
то другим, более наблюдательным современникам уже первоначальное объявление главнокомандующего показалось ложью. Таково было впечатление Бестужева-Рюмина, таково, по его словам, было впечатление всеобщее.
Верещагин поступал благородно, принимая на себя всю ответственность и не желая замешивать никого в процесс. Этим благородством Ростопчин, руководивший следствием, воспользовался для усиления вины Верещагина. Запутанный на следствии, Верещагин 26 июня дает письменное показание, в котором он отрекается от прежнего показания; он показывает, что «не только не находил газетного листа, но даже нигде и ни от кого не получал такового, не видал и не переводил, а чувствуя поступок свой, противный закону, думал, не оправдает ли его такое несправедливое показание о найдении им будто бы газетного листа и о переводе с него». Следовательно, Верещагин — сочинитель. Этим признанием и воспользовался Ростопчин.
«Впрочем, — добавляет автор воспоминаний, — бумаги сии (т. е. «прокламации» Верещагина) и сами по себе не сделали особенного впечатления в народе». Конечно, они не могли произвести «впечатления» уже потому, что и не предназначались для распространения в массе. Назвать их «прокламациями» мог лишь гр. Ростопчин в своем стремлении создать себе популярность открытием несуществующего заговора. Достаточно привести инкриминировавшиеся Верещагину места из переведенных статей, чтобы видеть ясно, как все это далеко было даже от возможного намека на какие-то «прокламации». В первой статье попадалась такая фраза, обращенная Наполеоном к прусскому королю: «Очень радуюсь, что вы… заглаживаете недостойный вас союз с потомками Чингизхана». А в другой говорилось: «Я держал свое слово и теперь говорю: прежде шести месяцев две северные столицы Европы будут видеть в стенах своих победителей Европы»… Ростопчин придал злостный умысел этому переводу, признав безапелляционно, что Верещагин как бы согласен с мнением, высказанным Наполеоном.
17 июля послушный Ростопчину магистрат вынес решение, коим Верещагин ссылался вечно в каторжные работы в Нерчинск, а Мешков, по лишении чинов и личного дворянского достоинства, отдавался в военную службу. По мнению магистрата, государственного изменника следовало бы «казнить смертью», но «за отменением оной» пришлось ограничиться каторжными работами.
Вторая инстанция — первый департамент палаты уголовного суда — с такой же быстротой утвердил приговор. Ростопчин немедленно же отправил приговор в Сенат, который 19 августа вынес уже окончательное постановление. Сенат признал, что Верещагин «изобличен и сам сознался в составлении пасквильного сочинения и что по силе узаконений уложения 2 гл. 2 пункта, военных артикулов 131 и указа 1762 г. июня 19-го, подлежит смертной казни, но как таковая казнь указом 1754 г., сентября 30-го дня, отменена, да и от означенного пасквиля ни малейшего вреда не последовало, и потому что он, Верещагин, по делу не изобличается в том, что намерен был причинить означенным пасквилем какой-либо вред, а написал оный, как сам показывает, единственно из ветренности мыслей, желая похвастаться новостью, каковое показание его обстоятельством дела не опровергается, то, согласно мнения главнокомандующего Москвы, наказать его, Верещагина, кнутом, двадцатью пятью ударами [23], потом, заклепав в кандалы, сослать в каторжные работы».
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

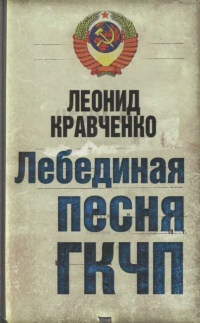
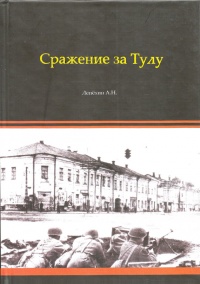
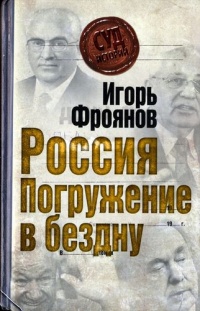

Комментарии