Как знаю, как помню, как умею. Воспоминания, письма, дневники - Татьяна Луговская Страница 14
Как знаю, как помню, как умею. Воспоминания, письма, дневники - Татьяна Луговская читать онлайн бесплатно
Был взгляд и сегодня, когда она говорила: «Володя никогда не врет — он выдумывает. Ты должна это понять!..» Что такое вранье, я знала. Но как отличить выдумывание от вранья? Нянька врет про Додона или выдумывает? Володя врет про зайцев или выдумывает? А нянька про казенку тоже выдумывает? Или врет? И почему сказать про рыбий жир — фискальство, ведь я не врала, это правда, он же так говорил. И Веруша Грунау слышала и смеялась, и другие девочки тоже смеялись. (Может быть, если бы засмеялась и я, то необходимость фискалки отпала бы, и мне не было бы обидно?) Почему фискалить нельзя, если это правда? Я ведь не врала, что он щипался за щеку (хоть и не больно, хоть и слегка, но все-таки щипался?). Почему же сказать маме, что я ушибла коленку, — можно, и это правда, а что Володя щипался — это дрянь и фискальство, и ее сердитые глаза? Почему правда про себя — всегда правда, а правда про других бывает иногда фискалкой? Почему выдумывание — это не плохо? А вранье плохо? Почему мама сделала сердитые глаза на правду? И спросить не у кого. К маме не подступишься, и с Володей поговорить неловко, потому что я фискалила на него.
Утешение пришло от няньки Екатерины Кузьминишны. Мучающие меня вопросы я задала ей, когда она раздевала меня на ночь (вернее, рвала пуговицы на моем белье).
— Дите еще врать не может, Танечка, оно еще в ангельском чине находится. А на щипание ты зла не таи. Тебя ведь не швейцар Савельич щипал, а брат родной. И без зла он щипал, а с любовью. Манька, горничная, барынин корсет мерила, когда ее дома не было, враз — это вранье есть.
— Про Додона же я, однава дыхнуть, всю чистую правду сказывала. И это не вранье есть, — а сказ. Сказ — дело святое. Вранье дело грешное.
— Нянечка, а Володя тоже не врет, а сказывает?
— И Володя, Танечка, тоже не врет, а сказывает.
Вот какую мораль преподала мне моя няня Екатерина Кузминишна Подшебякина.
Скверы около Храма Христа Спасителя (их было, кажется, три) весной покрыты бело-розовой пеной: цвели яблони. До отъезда на дачу в Оболенское меня водили гулять на правый сквер. Иногда одну, иногда с сестрой. С нами шла наша немка.
Ненавидела я эти прогулки, ненавидела и презирала. Игрушки для дома и для улицы были разные. Уличные игрушки были безликие, скучные и глупые: обруч с палочкой-погонялкой, серсо, волан или большой мяч, который нельзя было ни окунуть в лужу, ни прижимать к себе — словом, тоска. К тому же и одежда для прогулки на сквер была дурацкая: шляпа величиной с решето, узкое неудобное короткое пальто, платье с крахмальными оборками. Ни повернуться, ни прыгнуть, ни поиграть с удовольствием в «классы» в этой кукольной одежде было нельзя.
Наряженные такими же куклами, как и мы с сестрой, чинно ходили по дорожкам или сидели на лавочках другие девочки. Некоторые были поразительно похожи на кукол, другие были ряженные под кукол. Я хорошо понимала, что сестра настоящая кукла, а я ряженая. Это угнетало и отнимало свободу и непринужденность…
Игра на сквере возникала как-то чинно, откуда-то из центра, почти из клумбы.
Самая главная, самая настоящая девочка-кукла, пошептавшись со своей бонной, вставала и подходила к той девочке, которая ей больше всего приглянулась. Книксен.
— Девочка, вы будете играть в «гуси-лебеди» или «ходи в петлю ходи в рай», или в «Сеньку Попова»?
Приглашенная девочка вставала, делала ответный книксен, и ходить с приглашением начинали уже двое, трое, четверо, и, наконец, возникал большой кукольный хвост, который одновременно делал книксен перед очередной девочкой. (Некоторые, побойчей, сами просились в игру, но я не смела.) Попадались и мальчики. Они шаркали ножкой. Для игры в «Сеньку Попова» мальчик был просто необходим. Его завлекали в игру предложением: «Мальчик, вы хотите с нами играть? Вы будете Сенькой Поповым!» Книксен, шарканье ножкой.
Ах, если бы меня хоть раз назначили Сенькой Поповым, я была бы счастлива, я бы показала им всем! Но этого не случилось ни разу за всю мою длинную детскую жизнь…
И вот начинались глупые игры с унылым пеньем, без беготни, без азарта. Все, чинно, все скучно.
Больше всех игр мне нравилась игра в «Сеньку Попова» (она имела и другое название «Краски»). Быстрее других разбирались краски золотые, серебряные, голубые и розовые. Гадким голосом я желала быть черной или серой краской. (Очень хотелось быть заметной, хоть в черном цвете.) И если Сенька Попов был мальчик с головой, он-таки и выбирал черную краску назло всем золотым и серебряным куклам. Но это бывало очень редко. Чаще всего по усыпанной лепестками отцветающих яблонь дорожке бежали хорошенькие ножки в белых башмачках, обладательницей которых была серебряная или золотая краска. А рядом с ней, заложив одну руку за спину, словно в мазурке, словно на балу, гарцевал Сенька Попов, увлекая ее в другой конец сквера, где уже не цвели яблони, а где росла еще нераспустившаяся сирень.
Эти прогулки на сквер, к храму Христа Спасителя, оставили в душе какой-то нерадостный след, какую-то боль, ощущение своей неполноценности и тайную зависть к девочкам-куклам.
Не набегавшись, не накричавшись, не победив никого в игре, мы так же чинно, как и приходили, возвращались домой в положенный срок, неся в руках ненужные, не пригодившиеся нам игрушки.
Вышедшую замуж миловидную фрейлейн Аделину сменила Анна Мартыновна Томберг. Она приехала из Берлина, и мама очень гордилась, что новая фрейлейн так быстро выправила наше неважное произношение. Ведь Аделина была родом из Прибалтики и ни по-русски, ни по-немецки говорить как следует не умела.
Итак, в нашем доме появилась Анна Мартыновна Томберг (по прозвищу Томбергша). Тут уже пошли разговоры другие — и сплошь на немецком языке.
Она называла меня Тания, брата — Вольдемаром, сестру — Нина, ходила летом в Оболенском в причудливой треугольной соломенной шляпке, умывалась ледышками, которые ей приносили из погреба, и вообще была противная и какая-то пыльная, хотя и мылась каждый день ледышкой.
Летом, когда все вокруг цвело и тысячи наших подмосковных птичек копошились в деревьях, когда дятел стучал целый день в парке, малиновка раскачивалась на бузиновом кусте, за рекой под вечер плакала иволга, а птенцы сыпались из гнезд, и Володе приходилось лезть на дерево, чтобы сажать их обратно, а синицы нахально лезли на террасу и клевали хлеб со стола, когда все эти и еще разные другие птицы переговаривались, пели и их хотелось слушать и наблюдать, — именно в этот момент, фрейлейн Томберг, отбивая каждое слово ударом выгнутого в обратную сторону указательного пальца, скрипела скучным голосом:
— Тания, заг мир, битте, вас ист дас пфефферфрессер?
Так тоскливо, так незнакомо, так не к месту были эти вопросы про какого-то Перцееда — Пфефферфрессера. Да я такую птицу и в глаза не видела! И причем тут был пфефферфрессер, когда сегодня раненого птенца пеночки, которого я выхаживала, отыскала его птичья мать, принесла ему червяка и кормила его прямо у нас на террасе, когда по поступившим от водовоза Игната сведениям в низинке, около казенного леса, уже скосили всю траву и там сложены стога, и на них можно залезть. Причем тут пфефферфрессер, если купанье происходит уже два раза в день, а белые лилии замирают над омутом в реке Протве, и над ними, чуть-чуть дрожа, но не двигаясь с места, висят в воздухе стрекозы, а из желтых кувшинок можно делать такие прекрасные ожерелья, надламывая и разделяя надвое их длинный влажный стебель, когда под молодыми сосенками в конце парка вся трава обслюнявлена маленькими маслятами, а на черном крыльце скрипит и крутится мороженица с мороженым, когда папа сидит у себя в кабинете за некрашенным, пахнущим свежим деревом столом и занимается, а на его плечах подряд сидят четыре маленьких желтых шарика — это цыплята, у которых маму задрал коршун. Господи, причем тут пфефферфрессер, когда на лугу перед дачей выросла такая высокая трава, что даже если Нина станет там на колени, то ее не будет видно, а уж обо мне и говорить нечего, когда в доме появились слепой совенок и ежик, который прячется под буфетом, и если ситцевые занавески на моем окне каждое утро бывают так пронизаны солнцем, что цветы на них оживают? Какая глупость этот пфефферфрессер, если, по предсказанию той же Томбергши (так как у нее ломит коленки), завтра будет дождь, а я точно знаю, что когда его последние капли начнут образовывать на лужах большие радужные пузыри и солнце уже брызнет из-за облаков, то безусловно мама разрешит шлепать по лужам босиком. Боже мой, сколько счастья и интереса кругом, а эта немка пристает со своим пфефферфрессером!..
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

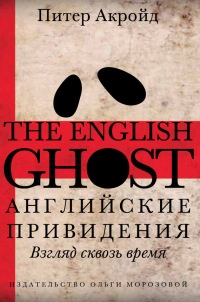

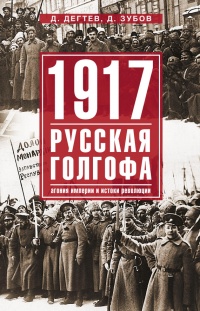
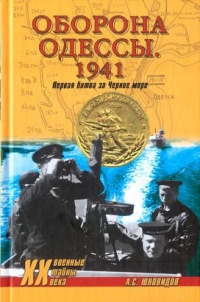
Комментарии