Таиров - Михаил Левитин Страница 13
Таиров - Михаил Левитин читать онлайн бесплатно
Таирова же она не забыла — в нем чувствовалась мера ответственности перед ней, он не казался сумасшедшим, сидя напротив в гостиничном кресле и читая что-то написанное о ней свое, а потом еще и «Красный цветок» Гаршина, чтобы она могла оценить его актерские способности. Он внушал ей скорее уверенность, чем тревогу, являл собой друга, а вовсе не нетерпеливого влюбленного. Он был опрятен, надежен, ясен.
Не слишком доверчивая, она успевала разбираться в людях в первую же минуту, не притворяясь приветливой, не лицемеря. Но если уже улыбнулась тебе, то, улыбаясь, забирала навеки.
Таирову она улыбнулась благосклонно, что означало небольшое сомнение в долговечности их отношений. Он не лгал, но был искренен в меру. Возможно, быть искренним еще больше никогда себе и не позволял, считая бестактным. Он был слишком ни на кого не похож, слишком сам по себе. Она почувствовала тайну и занервничала.
При эффектной внешности он показался ей малотеатральным. Скорее со стороны, от желания быть в театре, чем с правом быть в нем. Он был слишком основателен для театра. Это неплохо, конечно, но что дальше?
Она поверила его декларациям, но ему самому не поверила и смутилась, боясь, что он заметит.
Часто думал потом А. Я., как сложились бы их отношения, не умри Вера Федоровна пятью годами позже во время гастролей, заразившись черной оспой на ташкентском рынке. О чем она думала, глядя на него, каким должен был быть приговор?
Не узнать.
Вера Федоровна предложила ему работать с ней в сезоне будущего года.
— Вам будет интересно, — сказала она. — Я пригласила нового режиссера. Может быть, слышали — Мейерхольд.
* * *
Теперь ему следовало всё обдумать. Это занятие он любил, предпочитал эмоциям. Те, кому он был небезразличен, часто замечали на его лице отсутствующее выражение, прикрытое постоянной немного виноватой улыбкой. Улыбку он выставлял исключительно ради маневра — чтобы не мешали размышлять. Он любил казаться самому себе вдумчивым ответственным человеком. Собственно, таковым он и был, никто не мог упрекнуть в том, что ведут его эмоции.
Но никто и не мог знать, что значит для него эта попытка сдержать чувства, не заплакать внезапно, когда что-то получалось и счастье было получено из рук кумира.
Он умел быть благодарным. Где-то в глубине души он сознавал, что был оценен не по способностям, предпочитал считать это чудом, милостью Божьей. В удаче он отводил себе весьма скромное место. И, может быть, именно этим особенно подкупал талантливых и чутких людей. Они чувствовали, что существуют для него не как невразумительное Нечто, едва различимое застланному восторгом взгляду, а как сообщники.
Так и Комиссаржевская. Она так и не узнала, чего ему стоило сдержаться, не опуститься перед ней на колени, не выказать обожания прямо там, в гостиничном номере. Теперь, зная его позицию по отношению к ее театру, в которой не было чего-нибудь особо оригинального, но были существенные правильные мысли, изложенные ясно, она могла ему довериться.
С этого дня она имела право, встречаясь с ним где угодно — в театре, на улице, — одним только наклоном головы дать понять, что помнит, кто перед ней, и знает этому человеку цену.
Доверие Комиссаржевской никогда не было показным, актерским, оно было сродни влюбленности, немногие знали, чего ей стоило не перейти черты.
Она была первой женщиной, которой он решил посвятить всего себя.
Встреча со второй и самой главной была еще впереди.
Он вернулся в Киев, к Михаилу Матвеевичу Бородаю, непростому человеку, у которого обязан был завершить сезон прежде, чем уехать туда, в Петербург, в Пассаж, к Комиссаржевской.
Бородай держал, как тогда говорили, драматическую труппу в Киевском оперном театре и вообще был явлением необыкновенным среди театральных антрепренеров. Бородаю можно было доверять. Начав с кассира и администратора у знаменитого антрепренера Дюкова, к тридцати годам он уже вел собственное дело и вел его крайне удачно. Многое можно было приписать особой везучести Михаила Матвеевича, но честней было бы объяснить пониманием этого самого дела.
У Таирова были свои странные счеты к Бородаю. Он даже слегка скучал, когда не видел долго этого, желающего казаться интеллигентом, антрепренера. Он чувствовал в Бородае необычно постоянное усилие хозяина театра соответствовать своим гостям-актерам.
Любовь к театру, как считал Таиров, выражалась у Бородая правильно — он пытался быть объективным. Бородай был из тех немногих, кого можно было застать в позе как бы полулежащего за столом, в своем кабинете; казалось, он спит сидя, положив голову на стол. На самом же деле по лицу его блуждала в это время ужасная улыбка размышления. Бородай думал, Бородай считал, Бородай вынашивал сложнейшие схемы организации труда и правильной постановки театрального дела.
Это был нечастый хозяин, желающий заработать сам, дав при этом заработать другим. Поддерживало его в этом правильном, но чудовищно трудном занятии ощущение какой-то собственной исторической значимости. Ему казалось, что мало кто в России занимается с такой самоотверженностью подобным делом, мало кому удается добиться неплохих результатов, и в этом он был прав. Бородай был один такой на земле, как был один такой город Киев, один такой край Малороссия.
Актеры были унижены и бесправны, антрепризы возникали, как пузыри на воде, и лопались, никто не думал о будущем этих несчастных, считая их чем-то вроде экзотических растений, недолго выдерживающих в нашем климате. Они не должны были есть, пить, растить детей, думать о собственной старости, им можно было не платить жалованья, не было места, куда они могли обратиться за справедливостью, не существовало настоящей театральной школы, откуда могли выйти образованные хотя бы в своей профессии люди, и хотя уже возник МХТ, дело обстояло из рук вон плохо.
Все формы сострадания нужны, но сострадание тем, кто изо дня в день доставляет тебе радость, должно быть особенно поощряемо.
Бородай, где-то в глубине души сознавая это, был для людей театра и для себя самого чем-то вроде государства. Результатам его деятельности трудно верилось, хотя им можно было доверять. Косным людям театра многое казалось жульничеством. Это всегда рядом с деньгами, коммерцией, но… надо уметь смотреть.
Они были дураки, а он — умный. Они предпочитали жить по инерции, как бог на душу положит, а он умел считать. В свою и актеров пользу.
Ах, если бы он не заставлял Александра Яковлевича следить за собой, а открыл карты сразу! Таиров крепко смекал в директорском деле.
Что же придумал великий антрепренер и чему научился у него Таиров, единственный режиссер, через много лет получивший право не только на художественное руководство театром?
Михаил Бородай фетишизировал цифры, он выводил из них законы, мыслил математически. Деятельность полубредового актерского труда оказывалась в его восприятии сознательной и способной обрести все гарантии законности.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.



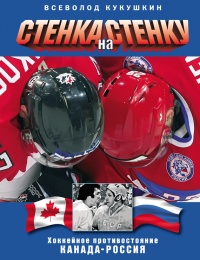

Комментарии