Великий розенкрейцер - Всеволод Соловьев Страница 13
Великий розенкрейцер - Всеволод Соловьев читать онлайн бесплатно
Между тем отец Николай подошел к другой женщине, стоявшей у крыльца. Эта была моложе, лет под сорок, с лицом бледным и спокойным, по виду и одежде – зажиточная мещанка либо купчиха. У нее на руках закутанный в теплое одеяло покоился ребенок, но ребенок не маленький, не грудной, а, по росту судя, этак лет трех или четырех.
Взглянув на ребенка, отец Николай даже вздрогнул – такое у него было ужасное и в то же время жалкое лицо. Это было человеческое лицо, но младенческого, благообразного в нем ничего не оказывалось. Это было несчастное уродливое существо с блуждающим, бессмысленным взглядом, с открытым и беспрерывно жующим ртом.
Губы отца Николая зашептали молитву, он благословил ребенка, потом мать.
– Бедный, бедный! – прошептал он. – Сколько ему лет? С рождения он у тебя болен?
– С рождения, батюшка, – тихо ответила женщина. – Давно это, ему ведь шестнадцать годов.
– Шестнадцать!
– Да, на вешняго Миколу семнадцать будет. Сначала, как родился, рос было, даже шибко рос, а потом вдруг перестал, так вот и остался.
– Ну, мать, пойдем в горницу, расскажи мне свою нужду, пойдем.
Они взошли на крыльцо; столпившиеся слуги расступились перед ними и поспешили отпереть двери в довольно просторную и чистую горницу, в которой через несколько мгновений отец Николай очутился наедине с женщиной и ее сыном. Он сел на лавку и жестом пригласил ее поместиться рядом с собою.
– Что ж у тебя, мать? – внезапно совсем успокаиваясь и глядя своими светлыми глазами то на женщину, то на мальчика, спросил священник.
Та опустила глаза, потом подняла их на него. Это были тихие, спокойные, грустные глаза, в которых выражалась большая прямота и большая покорность, безропотность.
– Да вот, батюшка, – начала женщина, – я ведь издалека – вологодская, у мужа моего торговля в Вологде, живем в достатке: всего вволю, дом свой, большой… так надо сказать – почти что по-барски живем, и что ни задумает мой хозяин, Митрий Степаныч, то ему и удается.
– Человек-то он, твой хозяин, какой – хороший?
– Хороший он человек, батюшка, ничего дурного про него сказать нельзя. Ну, там, не знаю, может, в своем торговом деле чем когда и покривил душою, не знаю я про то… а для меня всегда был добр да ласков. Почитай с малолетства я его и знала, соседи мы, старее он меня годов на семь.
– По доброй воле вы поженились?
– По доброй, батюшка, по доброй. Крепко мы с ним слюбились и вот живем без малого лет девятнадцать, и ничего такого промеж нас до сей поры не выходило.
– За что же это вам такое Господь наказание послал? Детей-то других у тебя нет, что ли?
– Есть, батюшка, как не быть, две уж большие девочки, сынок старшенький, разумный такой, почтительный паренек вышел, а вот этот второй родился.
– Наказание Божие!
– Это ты, батюшка, святое слово сказал, да, наказание мне… мне окаянной! Одна я в том виною. Как была я тяжела вот этим Николушкой, болезнь на меня напала, чаяла, не доношу да и сама не встану, вот тут я и взмолилась Богу да обеты дала: первое дело – пешком сходить на Москву, поклониться угодникам, а второе дело – три года работать, каждую свободную минуту работать… Я, видишь ты, батюшка, золотом шить мастерица, так вот и обещалась покров в собор вышить – это раз, а другое – остальные мои работы продать, а на вырученные деньги променять образ в золоченой ризе в собор приделу святого Николая Угодника и на неугасимую лампаду. Вот дала я эти все обеты, и полегчало мне, и хворость мою всю как рукой сняло: доносила я дитю совсем здоровая да и от бремени разрешилась благополучно. Ребеночек, Николаем мы его назвали, тоже здоров был, и позабыла я, грешная, окаянная, мои обеты, работать-то работала, да с ленцою, не то что в три, а в четыре года только и вышила одну пелену, а о том, чтобы в Москву идти пешком к святым угодникам да образ в золоченой ризе с неугасимой лампадкой в собор поставить, – об этом совсем забыла. И года не прошло с рождения Николушки, уже примечать мы стали в нем что-то неладное, а потом все хуже да хуже, а к четырем годам и расти совсем перестал, так несмышленочком и остался. Все дети здоровые, все дети красивые, а этот, вишь ты, какой! Всякий от него отвернется, только материнское сердце на него и глядеть-то может. И будто у меня память кто отнял, не думаю я о своем окаянстве, о том, что обманула Господа Бога, о том, что не сдержала обетов своих, только ропот во мне иной раз, большой ропот; за что, мол, Господь наказал, за что, мол, и мы, родители, страдать должны, глядя на наше детище, да и оно, ни в чем не повинное, – не то человек, не то зверь. Да какое там, хуже зверя!
– Ну, ну и что же? – весь превратясь во внимание, нетерпеливо спрашивал отец Николай.
– Вот так оно и было до этого лета; летом стою я в соборе перед иконою Николая Угодника, вдруг будто голос надо мною: «А где твои обеты? Где же твоя работа? Где неугасимая лампада? Была ли ты у московских угодников? От Бога получила, а Богу не дала и дитя свое погубила». Ровно ножом пырнуло мне прямо в сердце, так оно все кровью и облилось, упала я тогда: молиться хочу, да и не могу, побежала я к батюшке-духовнику, рассказываю ему, а он мне и говорит: «Да, это очень великое твое прегрешение, должна ты теперь замолить грех свой. Иди по обету». Вот мне от этих слов и стало легче. Через три дня вышла я с моим Николушкой, пришла на Москву, поклонилася святым угодникам, а теперь иду на Валаам и в Соловки….
– Мать, пешком все ходишь? И сына носишь? – воскликнул отец Николай.
– А то как же, батюшка? Обет такой был: пешком чтобы!
– Ведь мальчик вон какой большой, тяжел, чай?
– Сначала-то это точно, куда как тяжел был. Иной раз иду, иду, и невтерпеж станет, сяду и заплачу; ну а теперь уж привыкла, теперь уж иной раз и долго иду, а тяжести никакой не чувствую, так что порой даже забываю, что он у меня на руках.
– А муж-то, когда ты ему сказала, что пойдешь одна… с сыном, пешком, на Москву, а потом в Соловки… Он что же? Он так и отпустил тебя?
Женщина подняла на священника изумленный взгляд.
– А то как же, батюшка? Как же ему меня не отпустить было? Горько-то оно горько, ух как горько было расставаться! И его жаль, и детишек жаль, слезами они заливаются, да и хозяина слеза прошибла. А чтобы не отпустить – как же он мог? Себе он, что ли, враг! Ведь знает, что надо.
И все это она сказала так просто, так убедительно. Лицо отца Николая осветилось каким-то особенным светом, вскочил он с лавки и порывисто, неровною походкою, в очевидном волнении, весь сияющий, так и заходил по комнате.
– Ах ты счастливая! – воскликнул он вдруг, почти подбегая к изумленной женщине. – Да и сын твой счастливый, дай мне его… дай!
И он взял дрожащими руками у матери это уродливое создание, бессмысленно на нее глядевшее, и с несказанной нежностью стал осенять его крестным знамением, целовал его, целовал его в страшное лицо, целовал его руки и ноги.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


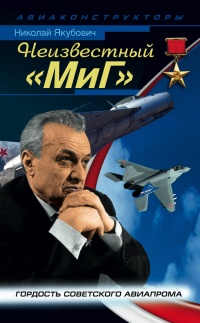
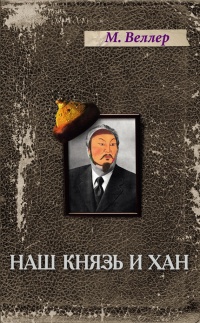
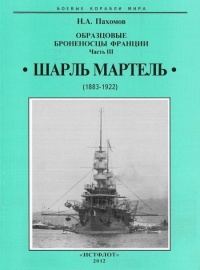
Комментарии