Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых - Владимир Соловьев Страница 12
Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых - Владимир Соловьев читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Я в этой жизни рано стал ребенком…
В шестнадцать лет, заполняя паспортную анкету, на вопрос о национальности я, будучи стопроцентным жидом, вписал — была не была! — русский, но получил в районном отделении милиции от майора Зубова (потому и запомнился!) паспорт, который решился открыть только дома: черным по белому, каллиграфическим почерком — еврей. Главное, этот поц ничего мне не сказал, не сделал втык, молча протянул паспорт и пожал руку. Стыд и срам. Как побитая собака — само собой, визуально. Пытался продать душу, предав свое еврейство, а мне ее вернули: кому нужна твоя жидовская душа? Таких охотников, думаю, был не один я. Урок на всю жизнь. Больше подобных попыток не предпринимал, а здесь, в Америке, у меня отпала единственная формальная связка с моим этносом — отчество: Исаакович.
Хотя, как бы я себя вел в том самолете, который летел в Энтеббе, где террористы отделяли овец от козлищ: за кого попытался бы себя выдать? В экстремальных ситуациях, когда встает вопрос жизни и смерти, человек сам не свой.
В подобных передрягах мне побывать, слава богу, не пришлось. Пока что. А потому возвращаюсь к рутинному нашему житью-бытью.
Не припомню, кто первым посетил нашу московскую квартиру — Окуджава или Битов. Было это к концу лета, Лена торчала в Питере, продолжая работать в «Авроре» и скрывая наш переезд от гэбухи и мишпухи, которые переплетались друг с другом, а потому мы были вдвойне осторожными. Распустили слух, что разводимся, кое-кто клюнул, один мой уже помянутый друг-враг высказался в том смысле, что вот Соловьев каков, даже жена бросила. Жека с моей мамой был на даче в Бернатах под Лиепаей, я строчил в пустой квартире «Роман с эпиграфами», даже не подозревая, что он когда-нибудь станет «Тремя евреями» (и до сих пор так его не воспринимаю, хотя признаю гениальность издательского названия). Битова я повстречал случайно — на выходе из писательской клиники, и он увязался за мной; на новой квартире я ему продемонстрировал «Расстрел коммунаров на Пер-Лашез» в исполнении рыжего кота Вилли: приставлял его на задних лапах к стенке, а тот истошно вопил, благо голос был знатный. Спустя полтора десятилетия мы повстречались с Битовым в российском консулате в НЙ на презентации «Королевского журнала», к участию в котором нас с Леной привлек Миша Шемякин, и первое, что меня спросил Андрей:
— Как там «Расстрел коммунаров»?
А я не сразу понял — вывезенный из России Вилли уже умер, и его образ постепенно вытеснялся другими нашими котами — гигантским эмоционалом Чарли и сиамцем непротивленцем Князем Мышкиным. Что ж, глаз у Битова приметливый и память классная. Довлатов, правда, говорил мне, что там нас лучше помнят, чем мы их — здесь. Не знаю. Потом Битов покатал меня на своей машине, сделав почетный круг у Розового гетто, но я не смог оценить его демонстрации, не разбираясь в марках: втуне, бисер перед свиньей. Булат тоже катал меня, но по Москве, а не по микрорайону, с него и начну, тем более все-таки он был первым — теперь я это вспомнил точно.
Смерть отбрасывает на судьбу человека какой-то особый отсвет. Не в том смысле, что о мертвых ничего, кроме хорошего — это как раз туфта. Сталин и Гитлер тоже мертвы, так что же о них — только хорошее? Дело в другом: смерть создает особое, двойное освещение, как на портретах Рембрандта. Случайное становится вдруг значимым, мелочи обретают тайный смысл, мимолетное обнаруживает связь с вечностью. Вот и с Булатом, когда его вдруг не стало среди нас, вечность творит странные вещи. Даже встречи с ним — одно время довольно плотные, по делу и без — я вспоминаю теперь как бывшие в какой-то иной жизни, за пределами реальной, хотя на самом деле они происходили в самых что ни на есть конкретных местах — в Москве, Переделкине, Ленинграде, где мы с ним познакомились. Я приехал к временному (из-за женитьбы) ленинградцу за тридевять земель, на питерскую окраину Ольгино на Ольгину улицу, чтобы в присутствии его новой жены Ольги уломать сочинить пьесу о декабристах для ТЮЗа, где служил завлитом. Было это, если мне не изменяет память, в конце 63-го или в начале 64-го. Точно помню — зимой, пробирался по окраине сквозь сугробы. Мне, 21-летнему, Окуджава казался стариком, хотя ему еще не было сорока. Зато Оля была красивой молодой женщиной, которая по какой-то особой спартанской системе выкармливала крошечного сына Булю. Я его хорошо запомнил с громадной кружкой лимонного сока, а заодно и неодобрение Булата: «Игоря мы растили по-другому». Еще помню, Булат жаловался в тот день, что ему в Лениграде плохо пишется, а Буля вскоре тяжело заболел и попал в больницу. Я его увидел через пару лет в Коктебеле — здоровым, высоким, красивым, весь в кудрях, мальчиком.
А тогда, от Димы Молдавского, главреда 2-го, кажется, объединения «Ленфильма», я узнал, что они отвергли сценарий Окуджавы на декабристскую тему, и Молдавский, идеологический реакционер, но человек добрый, и явно не он был инициатором запрета, посоветовал мне связаться с Окуджавой: переделать сценарий в пьесу — раз плюнуть, Булат закамуфлирует острые места, и, кто знает, пьеса может проскочить, хотя церберы — те же. По моей просьбе Булат и перекроил сценарий в пьесу — скорее элегическую, чем героическую, она проходила со скрипом обкомовско-горлитовскую цензуру, но — прошла.
К большому моему удивлению, Булат шел на уступки, поставив тем самым городские власти в трудное положение — им ничего не оставалось, как разрешить спектакль. Я гадал тогда, почему он так уступчив, и решил, что это такая тактика, в конце концов она сработала, победителей не судят. Теперь я понимаю, что была еще одна причина, более важная. Убирая из пьесы намеки и резкости, он не просто шел на компромисс с предержащими, но продолжал работать над пьесой, делая в том числе и такие исправления, о которых его никто не просил. Открываю однажды полученный от него из Москвы пакет с переделанной пьесой и читаю «сопроводилку»:
«Посылаю Вам экземпляр с правкой. Может быть, это интересней. Смотрите. Кюхельбекера я выбросил, т. к. эта фигура крупная, а то, что есть у меня — смешно. Так уж пусть его не будет. Его реплики поделил меж Бестужевым, Пановым и Борисовым».
Мне даже кажется, что Булат с удовольствием шел на «уступки» — пьеса становилась тоньше, глубже и, как ни странно, политически острее. Зато наотрез отказался заменить титул, как его ни упрашивали, и накануне спектакля на ленинградских улицах появились афиши с этим крамольным по тем временам названием: «Глоток свободы». Было это в середине 60-х, когда на всех фронтах отечественной жизни шел откат от демократических завоеваний хрущевской эпохи, и именно тогда битый, но недобитый Николай Павлович Акимов, главреж ленинградского Театра комедии, дал совет растерявшейся интеллигенции:
— Не спорь по мелочам, не уступай в главном.
Легко сказать.
Если кто и взял на вооружение этот лозунг, то Булат Окуджава, бывший тогда в частичной опале. Он воздерживался от публичных акций, но сама его поэзия была публичной акцией — не было необходимости в дополнительных. Кое-кто попрекал его даже личным равнодушием, в политической индифферентности, Нагибин дал ему довольно точную характеристику в своем «Дневнике»: холодный и проницательный (и еще парочка дневниковых нелицеприятностей). Окуджава входил в возраст, и то, что Толстой назвал «коростой старческого равнодушия», наступило у него задолго до старости. Можно сказать и по-другому, по-акимовски: он не опускался до мелочей, чтобы защитить главное. Иное дело: то, что он считал мелочами, для других мелочами не являлось.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.




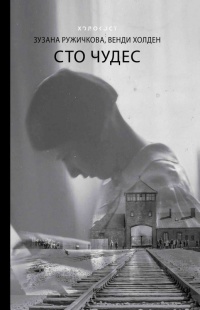
Комментарии