Поклонение волхвов - Сухбат Афлатуни Страница 12
Поклонение волхвов - Сухбат Афлатуни читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
– Здесь, милая Варенька, – позвольте я буду называть вас Варенька – замешана архитектура, оттого и строгость приговора. Открою секрет: русская архитектура – это и есть русская идея, никакой другой русской идее быть невозможно. Оскорбил братец ваш русскую архитектуру, в самое сердце ей наплевал. Оттого и строгости, милая Варенька, что от обиды!
И действительно – как это Варенька сразу не заметила? – на портрете, фоном: купола, колонны. Лезут из-за плеч и боков государя разные сооружения, и чем-то они все на самого государя пропорциями смахивают.
Только привыкла: опять жужжание. Теперь вся картина створкою отходит, под ней – новые виды: государь в партикулярном платье, лицо непарадное, книжный шкап и пастушка на полочке. Разговор (из-за холста) – о литературе, естественно; улыбка в ус: ах, литература! Вспоминает Пушкина, певца ножек и других приятных анатомических деталей… Рад, Варенька, что вам понравился бал, все ради вас. Что? Сам Гёте? Ах, комедианты! Друг Варенька, знали бы вы, какие гамлетовские раздумья овладевают порой моим сердцем, каким ничтожным кажется мне мир и его поступки! И лишь луч Любви…
При словах «луч Любви» за рамою снова засуетились; прежний государь, жужжа, поплыл вверх, наматываясь на валик; Вареньке открылся новый шедевр: Юпитер, без бороды и со знакомыми усами. Сидит в тучах, напоминающих подушки; в руках – связка молний (опять одна – в Вареньку целит). На плече – орел, клюв к уху поднес, последние древнеримские сплетни докладывает. На Юпитере тога; накинута небрежно, с некоторым даже байронизмом; и рука с букетиком молний.
– …луч Любви приносит порой отраду и отдохновение! – заканчивает Юпитер и подмаргивает: не ломайся, смертная. Подойди, и изольюсь на тебя золотым ливнем, лебединым семенем, жарким бычьим дыханием. И олимпийцев порой посещает томленье, тяжелое, как вой титанов, запертых в недрах земных; безумное, как ухмылка Хаоса. И падают пылающими яблоками боги с Олимпа, падают на дочерей земли, покрытых льдом неопытности. И прожигают с шипеньем этот лед, и кусают себя дочери земли за запястье, чтобы не выдать криком горячее присутствие божества. Варенька! Какая усталость и одиночество, мраморное одиночество небожителя! Среди липких алтарей, среди скифских балов! И лишь луч Любви…
Под усатым Юпитером что-то зажужжало, картина стала отделяться от стены. Варенька отпрянула; из-за рамы вдруг выглянула, отыскивая стоявший левее пуф. Наконец, нога. Нога была голой и распухшей, со следами водянки; Варенька следила за маневрами ноги, которая все блуждала, никак не попадая на пуф. Нога отловила пуф и оперлась. «Сейчас явится вторая!» – подумала Варенька. И не ошиблась.
* * *
Нет, все было не так. Привезли, провели коридорами. Нашептали инструкцию. Подтолкнули, напомнили, прошумели удаляющимися шагами. Появились, воровато, но с достоинством. Привлекли. Со вкусом раздели. Все было быстро, липко и небольно. Говорили по-французски.
Прощаясь, подарили ей диадему. Она взяла. Что уж теперь. Главное – просьба о помиловании Николеньки была донесена. Прошептана, проплакана в мраморное, со старческими сосудами, ухо. Кивнул: «Не беспокойтесь об этом». Или ей показалось? Зачем она не повторила просьбу?
Все та же карета отвозила ее, тоскливо гремя по мокрым улицам. Усни, безнадежное сердце…
* * *
Санкт-Петербург, 21 декабря 1849 года
Ночь с 21-е на 22-е была тяжела. Николенька обрушивался головою на подушку и считал до ста, приманивая сон. Рот делал бесполезные зевки; зрачки терлись о горячую изнанку век.
Наконец он уснул. Но не сытным сном, какой полагается арестанту за муки и неудобства. Снег с улицы переселился в Николенькино сознание и беспокойно замелькал перед лицом.
Вот Николенька идет Фонтанкой, не решаясь взять извозчика и не подвергать себя мерзостям климата. Набережная; несет дымом; квартальный вылез из будки, носом воздух щупает. Но Николенька дымом не интересуется. Полгода уже ходит Николенька изнутри расцарапанный, и даже Фурье в голове поблек. Архитектура – особенно после злосчастного обсуждения его проэкта – тоже повернулась к нему скучным, обшарпанным боком.
Вот задышало, хорошась кокошниками, Сергиево подворье: запустил недавно архитектор Горностаев сюда свой эклектический коготок, и выросла, выскочила псевдорусская кикиморка и пустилась в пляс по набережной. И расплясало ее аж до другой каракатицы, еще одним эклектиком сотворенной: до дворца Белосельских. Это г-н Штакеншнейдер рядом с горностаевской плясухой своих кариатид выгуливает и прочую псевдобарочную нежить. Щурится Николенька, снежную бурду с ресниц смаргивает.
Полгода как повстречал он на мосту, под мордой грифона, свою возлюбленную. Много с тех пор воды под тем мостом утекло. Схлынул тополиный пух, преследуемый метлами, отполыхало лето, отыграла красноватыми лужами осень. Еще раз наведался Николенька в ту квартирку, куда она его, чихающего, привела. Снова еле нашел, еле взобрался по лестнице. И снова выползло в дверную щелку чужое лицо, девочки с крысиной косицей: «Каво? Вам каво?..» Были еще безумные визиты в прачечные, вглядывание в пар; приходилось придумывать повод, сдавать какую-нибудь рубашку – все ради того, чтобы, нащурившись на влажные лица прачек, убедиться: ее здесь нет.
И вот идет Николенька набережной, сутулится от дыхания севера. Редкие кареты; рыбьи глаза лошадей. Вот одна карета, даже в сумерках светящаяся богатством… Померцав сбоку, чалится к Николеньке и затихает перед ним. Вскрипывает дверца: «Что же вы, Николай Петрович, догонять вас заставляете? Или загордились?»
А Николай Петрович, он же Николенька, он же – изваяние каменное, стоит, речь потерял: она! И голос – ее, и смех – ее, и лицо, из недр глянувшее. Выронил папку с проэктами, а из кареты – ирония: что же вы, Николай Петрович, произведения искусства роняете? Он – поднимать, а сам глазами уже в карете, рядом с насмешницей. Был глазами – стал всем телом, всею прозябшей персоной: усадила рядом. «За что, Николенька, хмуришься на меня? Или в мещанском платье я тебе милее была?» А в Николеньке уже зашумело; стал о своих страданиях-метаниях сообщать; она: всё знаю. Что глазами не видела, то сердце докладывало. «Как же так, ведь ты сказалась прачкой?» А она выюркнула ладонью из меховой муфты, жадно взяла Николенькину – и в муфту ее, к теплу. И давай там с нею безумствовать. Задохнулся Николенька, а она голову склонила, за нею – город в стекле качается, то выпятится кариатидой и тут же сам в себя перспективой убегает… «Как ты меня срисовал, переклинило мою жизнь, Николенька… Видишь, какою барыней-сударыней стала». Он – видит и не видит, весь разум его – у нее в муфте, где ярость ладоней и диалектика жарких уступок. Слова заглушались многоточиями лобзаний; многоточия нарастали, наслаивались на пунктир, отбиваемый копытами, всплесками кнута… Они слились, как тогда, в ее комнате. И когда он выдохнул в нее себя, она вдруг отринула, изменилась: «Ты грязный!» Удар кнута – снаружи – словно по его лицу: ожог недоумения. «Грязный… Прости!» – и в меха, в меха, закрывается рукой; внезапный толчок – выталкивает его в дверь, на полном скаку!
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


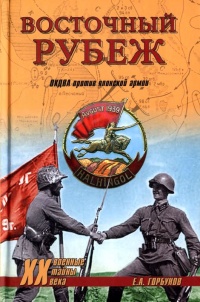

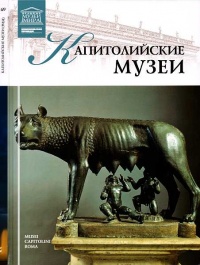
Комментарии