Сад - Марина Степнова Страница 12
Сад - Марина Степнова читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Главное, Наденька была жива и здорова, здорова и жива.
Доктор сумел вырваться из раскисшей в грязи Анны только через сутки, но до Петербурга так и не добрался, хотя истратил бо́льшую часть своего баснословного гонорара на то, чтобы подхлестнуть смелость самых беспутных и отчаянных местных ямщиков. По-нильски щедро разлившийся Икорец все равно пришлось преодолевать то волоком, то по пояс в густой черной жиже, вполне уже русской – безжалостной, цепкой, ледяной.
Боже милостивый, как же холодно! Холодно! Как болит голова!
Он потерял сознание в пяти верстах от Воронежа, успев распорядиться, чтобы его непременно отвезли в больницу. Боялся тифа, заразы, э-эп-пидемии только н-не хватало. Оказалось – пневмония, от которой доктор и умер спустя три дня в просторной воронежской земской губернской больнице, в полном и ясном рассудке – человеческом и медицинском, на руках у старшего врача Константина Васильевича Федяевского.
Последними его земными словами были: “Не хочу в эту грязь. Отдайте всё науке”.
Федяевский, человек сердобольный и деятельный (что и позволило ему в итоге сделать блестящую общественную карьеру), волю коллеги выполнил – и самолично разъял тело петербургского доктора на препараты, на которых, как мыслил Федяевский, молодые воронежские лекари должны были восполнять недостаток практического образования. Однако то ли Федяевский, вообще-то офтальмолог, оказался скверным гистологом, то ли бездушные местные сторожа не вынесли долгого соседства с сосудами, полными спирта, но спустя несколько лет образцы были признаны безвозвратно испорченными и отправились на свалку (Господь милостив – на жаркую, летнюю, сухую). И только череп доктора, желтоватый, ладный, с безупречным зубным рядом, жил еще долго-долго, потому что Константин Васильевич из уважения к коллеге (впрочем, понятого довольно превратно) оставил череп у себя и хранил на столе в кабинете. Федяевский даже советовался с черепом в сложных случаях – не из суеверия, а всё из того же уважения, которое со временем переродилось просто в странноватую привычку.
В 1895 году к Федяевскому в Воронеж заехала Туся, двадцатипятилетняя, энергичная, ненадолго увлекшаяся общественной жизнью (Федяевский только что открыл в Малышеве школу для крестьянских детей, Туся хотела такую же в Анне), и весь десятиминутный визит, во время которого Федяевский, пуша ухоженную бороду, сыпал восторженными трюизмами, машинально поглаживала лежащий на столе череп своего физического восприемника маленькой крепкой рукой, затянутой в смуглую горячую лайку.
Совпадение, невозможное в романе, но такое обыкновенное в человеческой жизни.
К слову сказать, о пользе просвещения, любезнейшая Наталья Владимировна. Череп сей принадлежал счастливейшему из смертных, эскулапу, который даже смерть свою сумел обратить на пользу науки. Звали его…
Федяевский запнулся, припоминая, и Туся, воспользовавшись паузой, прервала наскучивший разговор. В экипаже она понюхала перчатку и, сморщившись, бросила ее на мостовую.
Эфир! Не выношу этот запах.
А Федяевский, маясь, как от зубной боли, расхаживал по кабинету еще несколько часов, пока не выудил-таки из немолодой уже памяти имя петербургского доктора.
Михаил Павлович Литуновский.
Вот как его звали.
Действительно – счастливейший из смертных.

Через три месяца после рождения Туси, в июле, ночью, Надежда Александровна чувствовала себя несчастнейшей женщиной на земле. Хотя почему чувствовала? Она и была – несчастнейшая женщина. Отчаяние космами свисало с нее, волоклось следом, заполняло комнаты – пегое, пыльное, полуседое. Не давало дышать. Жить.
Всё, всё оказалось ложью – от первого до последнего слова.
Надежда Александровна переставила заплаканный подсвечник повыше – ничуть не лучше, боже мой, как же здесь нестерпимо, отвратительно темно! – и раздраженно сбросила очередную стопку книг на пол. Уклончивые французы. Велеречивые немцы. Джейн Остин и сестрицы Бронте, ради которых она, взрослая уже, стала брать уроки английского. А ведь, кажется, сами женщины – должны были понимать! Но нет, отделались салонной болтовней, ничего не значащей, никому не нужной. Борятинская мысленно перебрала сотни прочитанных романов, будто пальцами по четкам пробежала, следуя за суровой, неизвестно за какие грехи наложенной епитимьей. Сорок раз – Отче наш, сто пятьдесят – Богородице, еще сорок раз – Верую.
Нет, ни слова правды! Ни единого слова!
Романные маменьки, матушки, maman и даже совсем уже невыносимые благородные матери, над которыми Борятинская столько обливалась сладчайшими книжными слезами, оказались даже не пустой выдумкой, а недоброй шуткой, блекотанием злобного идиота, которого все принимали за равного, за своего. Которого, господи, просто принимали!
Молоко пришло разом, неприятно расперло изнутри – живое, теплое, никому не нужное. Борятинская дернула тесные крючки, еще раз дернула, чувствуя, как намокает на груди тонкая ткань, – об этом тоже не было в книгах, об этих унизительных, стремительно подсыхающих сладких пятнах, о том, как ноет поясница, когда наклоняешься над колыбелью, и как страшно – коротко и хрипло – дышит ребенок в темноте.
И как еще страшнее, когда дыхание это вдруг затихает.
Почему никто не написал об этом? Почему никто не предупредил?
Надежда Александровна попыталась вспомнить, как дышали ее старшие дети, – и не смогла. Детская была на антресолях – две крошечные жаркие комнаты, розовые лампадки в углу, батистовые балдахины над маленькими кроватями. Кормилицы, няньки, мамки. В кукольном этом молочном мирке царил образцовый порядок, хотя Борятинская сюда, кажется, и вовсе не заходила. Но могла зайти – в любую минуту. Это знали все. Го́лоса Надежда Александровна не повышала никогда, но и дважды замечаний не делала. Это тоже все знали. Даже шорох княгининых юбок, прохладный, тихий, наводил на прислугу почтительную оторопь – высокое искусство, овладеть которым мечтала любая хозяйка.
Николеньку и Лизу приносили утром и вечером – в одинаковых пышных платьицах из муслина, розовощеких, вымытых до скрипа, смущенных. Они были погодки, и князь – в те минуты, когда снисходил до этих детских свиданий, – часто путал сына и дочь и сам смеялся добродушно. Впрочем, отец он был нежный. Лизу и Николеньку почти не секли до трех лет, да и после – редко. Они и без этого росли тихими, почтительными – где-то там, во втором этаже, на своей половине. Борятинская иногда – в бальный сезон или если визитов было особенно много – даже забывала, что у нее двое детей. Что они вообще есть. Они и не болели, кажется, вовсе. Во всяком случае, она не помнила, чтобы ей об этом докладывали.
Нянек сменили гувернантки, потом к Николеньке приставили дядьку, были, помнится, бесконечные хлопоты с учителями, очень утомительные, но плоды воспитание давало безупречные. Когда семи лет Николя и Лизу допустили к общему столу, – сперва удостоился сын, следом в дальней части стола появилась Лизина чернокудрая головка, – все умилялись тому, как ловко они управляются с приборами и глазами спрашивают мать, можно ли ответить на заданный вопрос. Говорить, если к тебе не обратились, детям запрещалось настрого. Просить добавки, вообще подавать за столом голос – тоже. Надежда Александровна очень следила за тем, чтобы правильный тон в доме держался даже в таких мелочах.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
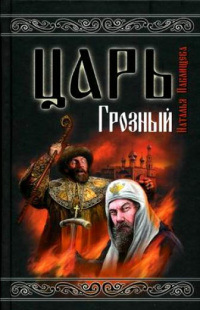




Комментарии