Игра в жизнь - Сергей Юрский Страница 11
Игра в жизнь - Сергей Юрский читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Переводчиков у нас не стало, и мы путались, не понимая ни языка, ни обстановки, не в силах принять никакого решения, не имея даже возможности дать знать в Москву нашим близким, где мы и что с нами. Искать контакта с оккупационными войсками было стыдно и неприемлемо. Просить о чем-то чехов – тоже стыдно. Принимающая сторона в лице Общества чешско-советской дружбы исчезла, что было и понятно. Мы еще купили яблок – почему-то много их продавали повсюду, – и у нас еще была литровая бутылка водки. Пили и не пьянели.
На следующий день пошли в большой поход по городу – местами бурлящему, местами абсолютно вымершему. Пошли сдавать кровь и искать Елену Сергеевну. Пишу, как было. На станции переливания крови могли дежурить «наши люди». Или могли спросить паспорта и записать данные. Власть в стране двоилась. Последствия любого поступка были абсолютно непредсказуемы.
Когда на Красную площадь в Москве вышли те восемь героев, это был акт смелости невероятной. Самосожжение. Прыжок в пропасть, взявшись за руки. И тогда думал о них с восторгом и замиранием сердца, и теперь.
Мы шли, доверившись туристской карте, иногда несмело спрашивая дорогу и получая недоуменные взгляды и неясные указания. Вопрос – зачем мы шли? Разве мы не понимали, что с кровью обойдутся и без нас? Понимали, конечно. Может быть, мы хотели поразить своей самоотверженностью людей с кровяной станции? Вряд ли. А может быть, спрашивая по-русски дорогу к станции переливания, мы всем этим случайным прохожим хотели намекнуть, что не все советские поддерживают вторжение, есть и другие? Как это мелочно, думаю я, глядя из сегодняшнего далека, – капля в море! Но выплывает уже затертая цитированием, но тем не менее прекрасная чеховская фраза: «Я по капле выдавливал из себя раба». Это лучше, чем: «С этой минуты я перестал быть рабом!» – лучше, потому что честнее. Так вот, это и была первая капля государственного непослушания. Первое миллиметровое отклонение маршрута от указующей стрелки, микроскопическое самоопределение не в художественной, а в гражданской сфере. В конце концов, это была абсолютно невидимая и никому не нужная акция. Но мы с Гришей шли, и не только ноги пооббивали о камни пражских мостовых – мы еще разглядели друг друга. А это важно. Мы друг другу поверили.
Кровь у нас не взяли. Прием был окончен – раненых оказалось меньше, чем предполагалось поначалу. А вот к гостинице Елены Сергеевны совершенно неожиданно мы вышли. И все описания совпали – что сразу за углом и что напротив обувной магазин. Консьержка указала нам комнату в узком коридорчике. Сестра Елены Сергеевны вчера отбыла в Париж, а сама она сидела в некоторой растерянности посреди уложенных уже чемоданов. Но растерянность ее касалась только простых проблем – будет ли поезд и когда, как добраться до вокзала с довольно объемными вещами. Она мягко, но определенно дала понять, что с моей оценкой случившейся катастрофы вполне согласна, однако обсуждать это считает несвоевременным. Я почувствовал некий ограничитель, запрещающий ей излишнюю эмоциональность в любых обстоятельствах. Может быть, это отголоски благородного стиля прошлых поколений. А может, личный опыт горечи – тех тайных надежд, взлетов и смертельных крушений, которые пережила она с Михаилом Афанасьевичем и после его смерти с его рукописями и посмертной славой.
Алена Моравкова нас не оставила. Это она сообщила в один прекрасный день (то ли прекрасный, то ли ужасный, то ли неясный), что поезд на Москву пойдет. Билеты, даты, номера вагонов значения не имеют, совсем не так много желающих выехать в Москву. Это Алена отвезла нас снова в отель, где остановилась Елена Сергеевна. Мы погрузились и отправились на Главни Надражи. Вокзал был по-прежнему оцеплен танками.
– Дальше мне нельзя, – сказала Алена.
Мы расцеловались. Прошлого жаль не было. Нам было жаль нашего будущего. Тоскливое возбуждение – вот как можно назвать состояние, в котором мы тогда находились. Мы пошли промеж танков, показывая наши паспорта.
Состав подали на первый путь. Провожающих не было. Не было ни объявлений, ни гудков. Поезд тронулся, и медленно, похоронно поплыли за окном серые в дожде пригороды Праги, еще две недели назад поражавшие нас своей веселой нарядностью. Теперь они казались унылыми, обшарпанными, бедными.
(В эти дни и про эти дни Григорий Поженян написал такие строчки:
Он прочел мне эти строчки через год, и я вспомнил – точно! Точно так было в тот вечер прощания с Прагой.)
Не спалось. Которую ночь подряд – не спалось. Известный кинокритик, выбиравшийся с какого-то симпозиума, говорил в коридоре о чехах:
– Это их кто-то накачивает, настраивает на враждебность к нам. Против чего забастовка? Что мы им, зла желаем? У нас же общее дело. Нет, кто-то в них сознательно разжигает ненависть к нам, к тем, кто их освободил, к их друзьям…
– А если друг приезжает в гости на танке, вам не кажется… – начал я.
В коридор выглянула Елена Сергеевна и настоятельно позвала меня в наше купе. «Не надо говорить, не надо доказывать, – шепнула она. – Они не хотят слышать и не слышат. Значит, и слова пустые».
Мы молча сидели втроем – она и мы с Гришей Хайченко. На столике подрагивали пустые стаканы в подстаканниках и стояла бутылка «Чинзано». Это я купил в баре Палас-отеля в последний момент.
Теперь уже трудно поверить, но в те времена советский гражданин на территории своей страны не имел права иметь в кармане никогда никаких иностранных денег. Если же они почему-то были, он обязан был в кратчайший срок сдать их в соответствующие учреждения. Поэтому тратили за границей всё до копейки, как перед концом света. Последний день любой поездки превращался в сплошную истерику – не успею, не потрачу. На этот раз обстоятельства лишили нас всякой возможности что-нибудь купить. Все, что было при нас, оставили друзьям. Но в последний момент вдруг обнаружились еще сотни три крон, и я купил «Чинзано» – в Москву! Дар Европы! Не знаю почему, но тогда именно вермут «Чинзано» казался верхом роскоши и тонкого вкуса. (Пьеса Людмилы Петрушевской с тем же названием была именно тогда написана.)
Так вот, бутылка «Чинзано» стояла на столе, но она была неприкосновенна!
Долго стояли в Оломоуце. Тепловоз ушел, а другой не хотели цеплять. Забастовка шла по всей стране. Потом поезд тронулся. Хлопнули двери, и несколько человек в мокрых плащах быстро прошли по вагону, выкрикивая что-то на ходу. Из купе высунулись немногочисленные пассажиры, и кто-то перевел: «В Россию поезд пропущен не будет».
– Но нас не могут бросить на произвол судьбы. Нас обязаны защитить, – взвизгнул кто-то в дальнем конце вагона.
Насильник чувствует себя жертвой и испытывает благородное негодование. Как часто потом приходилось наблюдать этот феномен. Да, мы – лично мы – представляли насилие. И этого нельзя было забывать. И нельзя взвизгивать. И нельзя ни на что жаловаться, потому что мы в светлом и относительно теплом вагоне едем по мокрой, оккупированной нами стране. Так я думал тогда. Во мне тогда жило (да и сейчас никуда не делось!) это вечное, воспитанное социализмом «мы». Я – часть. Я что-то значу, но «мы» важнее. Как интеллигент, я старался не быть участником агрессивных акций «мы». Я не клеймил, не участвовал в коллективных проклятиях, не подписывал писем осуждения. Но ответственность за эти деяния я полагал необходимым разделить с «мы». Собственно, в этом ощущении и было для меня доказательство моей интеллигентности как синонима благородства. Я не достиг еще великолепного индивидуализма высокоцивилизованного человека, который отвечает только за себя и является перед Всевышним целым, а не частью чего-то. Впрочем, я и сейчас этого не достиг и вряд ли достигну когда-нибудь. Более того, я стал терять уверенность, что этого следует достигать. Конформизм может являться в разных обличиях и с разными знаками. А как насчет смирения? А оно хорошо или не всегда? А есть ли общая вина? А действительно ли нет наказания без вины? Могу ли я достигнуть той степени индивидуализма, когда говорю только от своего имени и отвечаю только за себя и никто не смеет говорить от моего имени?.. Так я думаю теперь. А тогда мне казалось только, что визжать нельзя!
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


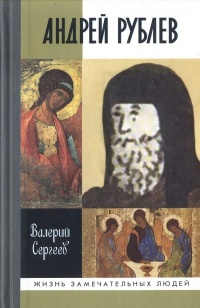

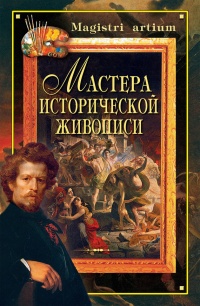
Комментарии