Еврейский камень, или Собачья жизнь Эренбурга - Юрий Щеглов Страница 10
Еврейский камень, или Собачья жизнь Эренбурга - Юрий Щеглов читать онлайн бесплатно
— Все одиноки в нашем мире, и каждый умирает в одиночку: чаще среди врагов.
Гансу Фалладе понравилось бы уточнение. А у меня мелькнуло: жить в одиночку хуже, чем в одиночку умирать. Теперь я считаю по-другому: умирать одинокому хуже. Близость финала вынудила изменить мнение.
Золотые цимбалы или разящая праща?
Любопытно, выполнил бы свое предназначенье Эренбург, если бы существовал в одиночку? Ни Варлам Шаламов, ни Эрнст Генри ничего о предназначенье Эренбурга не пишут. Они, впрочем, как и остальные люди, будто не замечают, что Эренбург имел предназначенье, что не каждому дано. Вот здесь и зарыта собака. Как относился Эренбург к собственному предназначенью? Большинство относится к деятельности Эренбурга как к его частному делу. Действовал, чтобы жить и выжить. Это не совсем справедливо или даже совсем несправедливо. Усеченное, но достаточно обоснованное проникновение в жизненную задачу Эренбурга сделал польский писатель Ярослав Ивашкевич, первым обратив внимание на заключительное стихотворение книги «Опустошающая любовь», которая вышла очень давно — в 1922 гаду. Эренбургу тогда исполнилось тридцать лет. В стихотворении «Когда замолкнет суесловье…» есть многоговорящая строфа:
Ярослав Ивашкевич считает, что здесь содержится вся жизненная программа Эренбурга и что он выполнял ее до смерти. «В этих строчках, — утверждает Ярослав Ивашкевич, — заключается тайна, а может быть, и трагедия Эренбурга. Считая себя поэтом, он разменял — ибо считал это своим гражданским долгом — золотые цимбалы на пращу».
Утверждение верное, но не во всем. Эренбург разменял не до конца «золотые цимбалы». Он создал несколько превосходных поэтических циклов, прославленный роман — для краткости назовем его «Хулио Хуренито» — образец отличной русской прозы. «День второй», «Виза времени», «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца», «В Проточном переулке» и военные стихи справедливо отнести к лучшим произведениям мировой литературы.
Есть у Эренбурга и другие заметные вещи, например парижские и испанские главы в мемуарах «Люди. Годы. Жизнь», послесталинская повесть «Оттепель», название которой бесповоротно вошло в отечественную историю и дало имя выдающейся и горькой эпохе.
Нет, не все «золотые цимбалы» и не окончательно разменял Илья Григорьевич, хотя политика, то есть борьба с нацизмом, ставшая главным его занятием на протяжении десятилетий, в чем-то губительно подействовала на художественное восприятие действительности, на стиль и поэтичность, иногда вторгаясь в сферы сознания, ответственные за осуществление и поддержание на должном уровне именно литературного процесса.
Гон
Если бы блондин в бордовой рубашке имел членскую книжечку с профилем Ленина в нагрудном кармане, он затравил бы меня в два счета. Я никак не мог догадаться, что за червоточинка была у него в биографии. До сей поры любопытно. Жизнь миновала, а додуматься не в состоянии. Вроде все на месте: фронт, пятый пункт, медаль, родственников нет за границей. В чем причина беспартийности? Почему не проник в партию, не облегчил карьеру? Высказывался весьма патриотично, с густым националистическим оттенком, гордился, как положено, принадлежностью к русскому племени. Мы — русские! Прусских всегда бивали! Настоящей принадлежностью гордился, а не самозванной, принадлежностью подлинной, глубинной, корневой, генетической, а не придуманной, измышленной. Я тоже себя русским считал, чем вызывал, конечно, улыбку и у него, и позже у многих других. Как доказать, что я русский? Знанием языка, литературы, обычаев, нравов, привычками, вкусами, пристрастиями? Чем? Ничем не докажешь, лишь ненависть разожжешь. Язык знаю лучше — не сравнить. В литературе начитан обширнее. И прочее на более высоком уровне. Речь прямая, плавная, без акцента и чуждых интонаций. Кровь такая же красная…
Самозванцев вроде меня, как бы отказавшихся от собственной — природной — еврейской национальности, он, блондин в бордовой рубашке, презирал и относил к приспособленцам. Вот если бы я так же, как он, повторял при каждом удобном случае, что я — еврей, люблю еврейский народ, его историю, язык и культуру, о которых не имел понятия, то он меня вроде бы как уважал и признавал за своего товарища и соседа по общежитию.
Масса эпизодов, вопросов и вопросиков на эту тему, вполне, на первый взгляд, безобидных, запомнились, несмотря на минувшие полвека. Он обладал грубоватой изощренностью следователя НКВД, примитивной и провокативной, однако достаточно опасной, если не разглядеть ее сущности сразу.
Как ни удивительно, группа и особенно девчонки — курносый комсорг Миля Стенина, соседка по парте Женя, слывшая красавицей Галя Петрова — смуглая, голубоглазая, с золотистой копной волос, миниатюрная симпатичная шатенка — ее подружка — Таня Сальник, крепенькая сибирячка, ширококостная и громогласная Шура Абрамова, Люся Дроздова — дальневосточная дива, дитя уссурийских чащоб, с чистейшим, тонким, будто линией Энгра очерченным профилем, смешливая Оля Киселева и Ниночка, забыл, подлец, ее фамилию, сперва молча, но неодобрительно наблюдали за развивающимся конфликтом или скорее — гоном, потому что я в большинстве случаев не противостоял преследованию, а старался уйти подальше и в сторону, отступить, сбежать с поля боя или ответить в безвыходной ситуации вяло и неопределенно. Ребята — Володя Моисеев, Олег Король, Ким Саранчин — морщились: им не нравились подковырки, не нравилась ирония, не нравился угрожающий тон. Кто он, в конце концов, такой? Они тоже русские, коренные: ну и что? Где тут повод для гордости? Все вокруг русские — Бабушкин, Мильков, Ожегов, Блинов. И никто флагом не размахивает.
— Ты этот гон прекрати, — как-то мрачно бросил блондину в бордовой рубашке Володя Моисеев, с которым я подружился. — Прекрати этот гон! Понял?
Но он ничего не понял, не прекратил этот гон и продолжал свою игру, совершенно мне непонятную.
Дурачок
Я отчетливо воспроизвожу — чаще по ночам — в сознании холодный солнечный осенний день, которые еще попадаются в первых числах октября перед затяжным томским подмороженным ненастьем. Одно из семинарских занятий проводилось в главном здании университета. Я пересекал рощу вместе с Женей, совершенно не предчувствуя, что ждет впереди. Я очень полюбил рощу — она стала для меня Рощей, — и каждый раз, когда туда попадал, меня охватывало наивное и ни на чем по-настоящему не основанное ощущение свободы и надежды. Роща в тот день выглядела будто написанная отринувшим грусть Левитаном. Еле уловимый шум ветерка оживлял ее. Семинару отвели одну из аудиторий на геологическом факультете. Ярко залитая оранжевым свечением комната напоминала театральную декорацию. Шкафы, стулья и столы, окрашенные в желтую краску и отполированные до блеска, сияли под падающими из высоких окон лучами похолодевшего светила.
Мы с Женей уселись, как всегда, вместе и провели в блаженном состоянии сорок пять минут, в то время как Владимир Ильич Мильков кого-то терзал у доски. И надо же такому случиться, чтобы блондин в бордовой рубашке поймал мой взгляд своим — да так крепко, что не удавалось от него оторваться. Он стоял у шкафа, где за стеклами на специальных подставках выставили разные геологические породы, камни и еще какие-то предметы. Он уже наткнулся на нечто, к чему исподволь стремилась натура. Скрючив плоский палец, он добродушно и необидно поманил меня, благо расстояние составляло несколько шагов.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


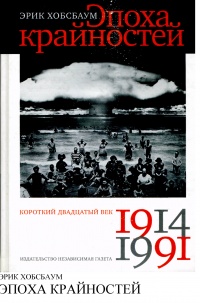
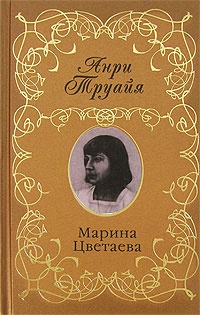

Комментарии