Маленький, большой - Джон Краули Страница 31
Маленький, большой - Джон Краули читать онлайн бесплатно
Они не сумели (или не захотели) прятаться от Тимми Вилли и Норы Дринкуотер, которые запечатлели их портреты с помощью «кодака».
Эти немногие окна
С того времени фотография стала для Оберона не просто развлечением, а неким инструментом, хирургическим скальпелем, который, срезая лишнее тонкими слоями, добирается до самой тайной сути, являемой его испытующему взгляду. К несчастью, Оберон обнаружил, что сам он лишен возможности быть непосредственным свидетелем всяких дальнейших доказательств присутствия бесплотных существ. На его фотографиях лес — даже те дремучие уголки, обещавшие несомненное наличие призраков, — был только лесом. Ему необходимы были медиумы, что бесконечно осложняло поставленную задачу. Оберон продолжал верить, — да и как он мог не верить? — что объектив и светочувствительная пленка сохраняют полную индифферентность, что фотокамера так же неспособна придумать или фальсифицировать образы, как замерзшее стекло неспособно само по себе создать отпечаток пальца. И все-таки если кто-нибудь находился бок о бок с ним, когда он снимал то, что казалось ему случайными образами (пускай ребенок, обладающий особой восприимчивостью), то иногда эти образы обретали лица, становились некими персонажами — правда, едва уловимыми, но пристальное изучение вскрывало их присутствие.
Но что за ребенок?
Факты. Доказательства. Во-первых, брови. Оберон был убежден, что прямая линия сросшихся бровей, которую дети (правда, не все) унаследовали от Вайолет, несомненно, имела к ним какое-то отношение. У Августа из широких и темных, сросшихся над переносицей бровей торчали отдельные длинные волоски наподобие тех, какие бывают на кошачьей морде. У Норы были похожие линии бровей, у Тимми Вилли — тоже, хотя, став девушкой, она постоянно их подбривала и выщипывала. Большинство младших Маусов, походивших скорее на Деда, этой приметы были лишены, как и Джон Шторм и сам Дед.
Оберон тоже пошел в них.
Вайолет всегда говорила, что в той части Англии, откуда она родом, сросшаяся линия бровей означает, что перед вами буйная личность с криминальными задатками — возможно, даже маньяк. Она посмеивалась над этим и над предположениями Оберона: в энциклопедически исчерпывающем справочном аппарате последнего издания «Архитектуры» о бровях не упоминалось ни единым словом.
Ладно. Возможно, вся эта петрушка с бровями являлась для него всего лишь способом уяснить, почему ему отказано в доступе, почему он не в состоянии их увидеть, хотя его камера их запечатлевает; Вайолет их видела, и Нора тоже какое-то время обладала этой способностью. Дед часами толковал о малых мирах и о тех, кто мог попасть туда, но у него не было доводов, не было ни малейших доводов ; он сосредоточенно разглядывал снимки, сделанные Обероном, и рассуждал о необходимости увеличить и укрупнить кадр, использовать специальные объективы. Он сам плохо понимал, о чем говорит, но Оберон проделал в этом направлении ряд экспериментов, пытаясь найти дверь для входа. Затем Дед с Джоном настояли на публикации некоторых фотографий из его коллекции в брошюрке — «религиозной книжке для детей», по определению Джона, к которой Дед присовокупил комментарии, изложив в них свои воззрения на проблемы фотографии, причем так отчаянно напортачил, что никто, а дети — в особенности, не обратил на книгу ни малейшего внимания. Оберон так и не простил старшим этого провала. И без того размышлять над явлением непредвзято, с научных позиций, было довольно непросто, а если еще подозревать, что тебя считают либо сумасшедшим, либо безнадежно одураченным, и все только и твердят об этом… Или, по крайней мере, те, кто удосужился дать какой-то отзыв.
Оберон пришел к заключению, что таким образом — посредством детской книжки! — они попытались заставить его ослабить борьбу, чтобы в дальнейшем полностью вывести из игры. И Оберон позволил им сделать это, ввиду глубоко укоренившегося в нем чувства изъятости. Он был аутсайдером — во всех отношениях: не сын Джона; не совсем родной брат его младших детей; чуждый как безмятежному нраву Вайолет, так и отваге потерянного Августа; брови у него были самые обыкновенные; вера в душе отсутствовала. Он так и остался старым холостяком, без жены и потомства; фактически, почти что девственником. Почти. Изъятый даже из этого сообщества, он все же никогда не обладал никем из тех, кого любил.
При этой мысли Оберон ощутил легкую боль. Он прожил всю жизнь, страстно домогаясь недостижимого, а такая жизнь в итоге приводит к равновесию, здрав ты рассудком или нет. Жаловаться незачем. В какой-то степени все они были здесь изгнанниками: хотя бы эту участь он разделял с ними и не завидовал ничьему счастью. Он определенно не завидовал Тимми Вилли, бежавшей отсюда в Город; не осмеливался завидовать и потерянному Августу. С ним всегда были эти немногие окна — черно-серые, недвижные и неизменные: окна, распахнутые в гибельные страны.
Оберон закрыл папку (в нос ударил аромат старой, потрескавшейся черной кожи) и вместе с тем оставил очередную попытку классификации этих и обширных серий других фотографий, рядовых и совсем напротив, доведенных вплоть до нынешнего дня. Он мог бы отложить собранное в его настоящем виде: распределенным по отдельным главам, снабженным дотошными, но — боже мой, насколько же недостаточными — перекрестными ссылками. Решение это не слишком его обескуражило. В последние годы он не раз принимался за кардинальную пересортировку, но затея неизменно кончалась одним и тем же.
Оберон терпеливо завязал тесемки папки, датированной «1911—1915», и встал, чтобы извлечь из тайника большой альбом в клеенчатом переплете. Без надписи. Здесь она ни к чему. В альбоме хранилось множество недавних фотографий, сделанных всего лишь десять-двенадцать лет тому назад, однако этот альбом составлял пару старой папке с его первыми снимками. Здесь была представлена другая сторона его деятельности как фотографа, труд всей жизни, выполненный левой рукой, хотя правая, движимая Наукой, на протяжении долгого времени знать не знала, чем занята левая. В конце концов возымело смысл только то, что произвела левая рука, а правая усохла. Он сделался (а может, и всегда им был) левшой.
Легче было определить, когда Оберон стал ученым, нежели когда он перестал им быть; в тот момент (если таковой имел место) его ущербная натура предала его и, не дав это уяснить, прекратила грандиозный поиск ради… ради чего? Ради искусства? Можно ли бесценные снимки в клеенчатом альбоме считать произведениями искусства, а если и нельзя — то какое ему до этого дело?
Любовь. Отваживался ли он называть это любовью?
Оберон положил альбом на черную папку, из которой он произрос, словно бутон розы из терновника. Вся его жизнь лежала тут перед ним в свете шипящей лампы. Белый ночной мотылек ударился об абажур и упал на стол.
В заросшей мхом лесной пещере Дейли Элис рассказывала Смоки:
— Он обычно говорил: пойдемте-ка в лес и посмотрим, может, что и увидим. И забирал с собой свой аппарат — когда маленький, а когда большой, из меди и дерева, на треноге. А мы упаковывали завтрак. Сколько раз мы сюда приходили — и не сосчитаешь!
Посмотреть, может, что и увидит
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

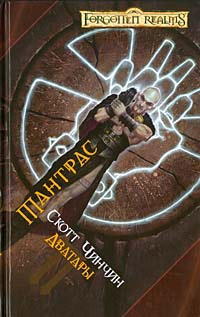



Комментарии