Вторжение жизни. Теория как тайная автобиография - Венсан Кауфманн Страница 2
Вторжение жизни. Теория как тайная автобиография - Венсан Кауфманн читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
В конце XIX века Вильгельм Дильтей предпринял знаменательную попытку преодоления этой пропасти, примирения теории и автобиографии. Он утверждал, что мы, собственно, занимаемся тем же самым, теоретизируем ли мы или пишем автобиографию. С одной стороны, Дильтей воевал с унылой теорией рационализма и призывал философию к раскрытию всего исторического ансамбля жизненных взаимосвязей: «В жилах познающего субъекта, какого конструируют Локк, Юм и Кант, течет не настоящая кровь, а разжиженный сок разума как голой мыслительной деятельности». [8] Рядом с теорией, занятой макрокосмом исторической действительности, он ставил, с другой стороны, автобиографию, повернутую к микрокосму отдельной жизни:
Автобиография – это высшая и наиболее поучительная форма, в которой нам представлено понимание жизни. здесь жизненный путь явлен как нечто внешнее, чувственно данное, от чего понимание должно проникнуть к тому, что обусловило этот путь в определенной среде. Но при этом человек, понимающий этот жизненный путь, идентичен тому, кто этот путь проделал. Из этого вырастает особая интимность понимания. <…> здесь самость постигает свой жизненный путь так, что осознается человеческий субстрат, а также те исторические отношения, в которые она вплетена. Таким образом, автобиография способна, наконец, развернуться в историческое полотно; и его границы, но и его значение определены тем, что полотно это извлечено из переживания, чья глубина делает понятными самость и ее отношение к миру. [9]
Дильтей представлял себе дело довольно просто: он исходил из гомологического подобия между большой и малой, всемирной и индивидуальной историей. Но кто сказал, будто мир и на самом деле образует целостную взаимосвязь, усматриваемую в нем теорией? И откуда взялась у Дильтея уверенность, что жизнь переходит в автобиографию без искажений и изъятий? Дильтею уже упреждающе возражал Кьеркегор:
Говорят, можно ковырнуть пальцем землю и понюхать, чтобы узнать, куда, в какую страну ты попал; я ковыряю существование, – а оно ничем не пахнет. Где я? Что такое – «мир»? Что означает само это слово? Кто это обманом завлек меня сюда и бросил на произвол судьбы? Кто я? <…> Как я стал соучастником в этом крупном предприятии, именуемом действительностью? Какова моя часть в нем? [10]
Что жизнь и мир не могут гармонически ужиться под единой крышей одного-единственного метода – эта критическая уверенность общая для всех рассматриваемых в данной книге авторов, даже для тех, кто ближе всего стоит к позиции Дильтея, а именно Дьёрдя Лукача и Ханны Арендт. Сколь бы различны между собой они ни были, их объединяет отказ от Дильтеевой установки. В XX веке теория станет в широком масштабе автобиографичной, но отнюдь не в смысле дильтеевского великого примирения между субъектом и миром. О полном и всестороннем понимании уже не может идти и речи.
Вторжение жизни настигает теоретиков, смешивает карты любых анализируемых ими отношений, схлопывает все их устоявшиеся профессиональные идентификации. При любой их попытке восхождения к чистому духу жизнь напоминает им о себе тем непреложным фактом, что люди состоят из плоти и крови. По мере того как испаряется доверие к понятийному схватыванию мира, нарастает подозрение, что все теоретизирование бьет мимо цели, как раз когда говорятся большие и напыщенные слова, якобы пригодные для передачи сути мира, и употребляется язык, для этого отнюдь не уместный. Но может подходящего, собственного, языка для этого нет вовсе?
Трудно не увидеть в автобиографическом повороте в теории симптом кризиса, выражение неудобства (Unbehagen) и потерю ориентиров. Неудобство предстает как реакция на идеал замкнутой теоретической системы. Первым на штурм этого идеала призвал не кто иной, как Фридрих Ницше, в ком мы находим раннего проповедника поворота к автобиографии: если мыслитель выдвигает некое «целое», некоторую «систему», то это просто такой обман (Eine Art Betrügerei). [11] Вопрос заключается в том, как в свете этого неудобства дальше заниматься теорией, как вообще быть теоретиком и себе как таковому придать форму. Утрата ориентиров произошла оттого, что, по словам знаменитой формулы Макса Шелера, еще никогда в истории человек не был настолько проблематичным для себя, как в настоящее время [12] и пребывает со своей строчной «я» в полной растерянности.
Тезис, сводящий напряженные отношения между теорией и автобиографией к неудобству в культуре и утрате ориентиров, объясняет многое, но не всё. Его слабость обнаруживается в негативности обоих терминов, выражающих суть кризиса: не‑ удобство… утрата… а значит, нехватка, недостаточность, пробел, страдание. захватывающие, напряженные отношения между теорией и автобиографией удостаиваются траурной рамки. Выходит, что теоретик обращается к своей никчемной жизни потому, что ни на что лучшее оказался неспособным. И наоборот, из этого положения можно выйти, если теория справится со своими проблемами и восполнит присущие ей нехватки. Каким будет это состояние, косвенно уже преддано и предписано. Если убрать негативность, то получим удобство в культуре и надежное наличие ориентиров. Теоретики-автобиографы предстают тогда рыцарями печального образа, помешавшимися на своей нужде и тайно уповающими обрести, наконец, удобную безопасность. Но каково могло бы быть это состояние? Безопасность системы, осажденной подобно крепости, или же безопасность juste milieu, «золотой середины», присущая академической среде?
Но, быть может, теоретики-автобиографы не обязательно были теми невеселыми героями, что мечтали любой ценой сбросить свою кожу, читай: идентичность, или они во всяком случае не были рыцарями только печального образа. Конечно, многие из рассматриваемых в этой книге авторов были разъедаемы внешней и внутренней нуждой; но большинство из них были способны творчески преобразовать эту нужду, на время забыть траурную ленту, обрамляющую связь между теорией и автобиографией. В этом они также следуют Ницше, нападавшему на системный идеал и грезившему отнюдь не о печальной, но о «веселой науке». Соответственно в истории теоретико-автобиографических отношений можно – вполне ницшеански – узреть дух не только отрицания, но и утверждения. Так мы начинаем понимать одновременно тесную и до головокружения сложную связь между жизнью и письмом. Вопрос о том, как человек живет, как говорит (о самом себе), о том, как соотносятся формы его жизни и языковые игры, жизненные установки и позиции говорения, оказывается важным для высвобождения его творческой энергии. Если теория отсылает к автобиографии, то она не сводит себя к личному, но приближается к жизни, порывая с ложной самодостаточностью. И наоборот: позволяя просветить себя теоретически, автобиография не становится слишком рассудочной, но уходит от упрямого и монотонного самолюбования-самобичевания. Всем собранным в этой книге мыслителям присуще то, что они то и дело ощущали необходимость или возможность противопоставить контингентности жизни точность мысли, и наоборот. Их маргинальность могла вырасти из нужды или высокомерия, из чьего-то влияния или из собственного своеволия. Так или иначе, по тем или иным причинам, но блуждание на грани, нарушение границ стали для них привычным делом.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

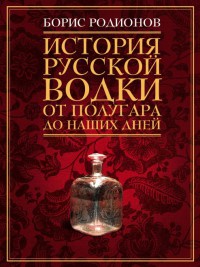
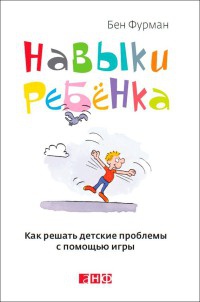

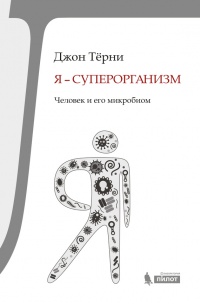
Комментарии