Советская литература: мифы и соблазны - Дмитрий Быков Страница 13
Советская литература: мифы и соблазны - Дмитрий Быков читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Но и мир, в котором живут эти герои, не заслуживает снисхождения. Вот канонический текст, который все, разумеется, знают, «Начало очень хорошего летнего дня»:
Чуть только прокричал петух, Тимофей выскочил из окошка на крышу и испугал всех, кто проходил в это время по улице. Крестьянин Харитон остановился, поднял камень и пустил им в Тимофея. Тимофей куда-то исчез. «Вот ловкач!» – закричало человеческое стадо, и некто Зубов разбежался и со всего маху двинулся головой об стену. «Эх!» – вскрикнула баба с флюсом. Но Комаров сделал этой бабе тепель-тапель, и баба с воем убежала в подворотню. Мимо шел Фитилюшкин и посмеивался. К нему подошел Комаров и сказал: «Эй ты, сало!» – и ударил Фитилюшкина по животу. Фитилюшкин прислонился к стене и начал икать. Ромашкин плевался сверху из окна, стараясь попасть в Фитилюшкина. Тут же невдалеке носатая баба била корытом своего ребенка. А молодая толстенькая мама терла хорошенькую девочку лицом о кирпичную стенку. Маленькая собачка, сломав свою тоненькую ножку, валялась на панели. Маленький мальчик ел из плевательницы какую-то гадость. У бакалейного магазина стояла длинная очередь за сахаром. Бабы громко ругались и толкали друг друга кошелками. Крестьянин Харитон, напившись денатурату, стоял перед бабами с расстегнутыми штанами и произносил нехорошие слова.
Таким образом начинался хороший летний день.
Подзаголовок «Симфония» совершенно очевидно относит нас к тексту Андрея Белого «Симфония (2-я, драматическая)» с его семантически никак не связанными лирическими темами, которые начинают пересекаться, звучать вместе, звучать отдельно. Этот текст, несомненно, послужил Хармсу некоторым литературным источником. И у Хармса точно проведен контрапункт, когда нам все время напоминают о чудесном летнем дне, о какой-то радости жизни, идущей фоном, а побочная говорит о всеобщей омерзительности; и посмотрите, как точно сахар подведен к гадости из плевательницы. После этого вспоминать о сахаре без омерзения становится довольно трудно.
Звероватые тексты Хармса, которые отражают естественную реакцию на чудовищную жестокость мира, появляются в последние годы у него все чаще. Весь поздний Хармс – это страшная квинтэссенция насилия и грязи. «Постоянство веселья и грязи» называется одно из лучших его стихотворений с рефреном:
Эта квинтэссенция насилия начинает особенно бурно проявляться в хармсовских текстах примерно с 1936–1937 года и пика достигает в «Старухе» (1939). Это ключевое итоговое произведение, «Старуха», пожалуй, как некий центон, сводит воедино все хармсовские темы.
«Старуха» – текст, который, по словам Валерия Попова, страшнее самых страшных разоблачительных текстов русской литературы. Текст этот полон первобытного ужаса с самого начала, когда старуха держит в руках стенные часы, а на часах нет стрелок. Это история о том, как человек с трупом старухи в чемодане собирается утопить его в болоте, и чемодан у него похищают в поезде. Лишившись, наконец, проклятого трупа, который вынужден за собой везде таскать, герой с облегчением произносит православную молитву «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь». А дальше идет знаменитая ремарка:
На этом я временно заканчиваю свою рукопись, считая, что она и так уже достаточно затянулась.
«Старуха» имеет самые разные толкования в хармсоведении. Но наиболее убедительным, поскольку мы знаем, что Хармс был православным верующим и для него христианство не пустой звук, а главное в его системе ценностей, будет ответ, который дал сам Хармс:
Видите ли, – сказал я, – по-моему, нет верующих или неверующих людей. Есть только желающие верить и желающие не верить.
Одна из сквозных тем Хармса и Кафки – тема невозможности действия, невозможности поступка. В «Сельском враче» (1917) Кафки врач никого не врачует, землемеру не дают мерить землю в «Замке». Точно так же герои Хармса страдают оттого, что надо что-то написать, но написать-то как раз они и не могут. В исповедальном рассказе «Утро» (1931) герой сидит, захотелось курить, осталось всего четыре папиросы, хорошо бы оставить три на утро…
Я просил Бога о чуде, чтобы я понял, что мне нужно написать. <…> Я просил Бога о каком-то чуде. Да-да, надо чудо. Все равно, какое чудо.
И герой рассказа «Старуха» пытается написать рассказ – о чудотворце, который не творил чудес, ему достаточно было осознания, что он может сотворить чудо. Его выселили из квартиры, хотя он мог избежать этого выселения, его переселили в сарай, хотя он мог сделать этот сарай кирпичным домом, и так он и умер, не сотворив ни одного чуда.
Мучительная тоска по чуду, мучительная жажда чуда, чуда в религиозном смысле, библейского, необъяснимого, незаслуженного, никак не связанного с земным поведением, пронизывает всего Хармса. И в «Старухе» это чудо поразительным образом происходит. Оно приходит, как часто у Хармса, в сниженном виде: из-за съеденных сырых сарделек у героя случается понос. Пока он в поезде бежит осуществлять насущную необходимость, тут-то у него чемодан со старухой и крадут.
Немало разных вариантов ответа на вопрос, что, собственно, есть эта старуха. По одной точке зрения, старуха – вообще советская власть. Не случайно появляется у Аксенова в гениальном рассказе «Рандеву» Смердящая Дама. Эта Смердящая Дама символизирует собой любую власть – власть мира, власть смерти, власть тела и так далее. И страшный ужас этой телесной власти герой сбрасывает. Пусть через непристойность, через абсурд, в конце концов, через обсценность, но он ее сбрасывает:
Никогда, никогда он не поцелует даже краешек платья этой Дамы. <…> …знай – прикоснешься к ней и уже не уйдешь, высосет из тебя ум и честь, и юную ловкость, и талант, и твою любовь. Лучше погибнуть!
Может быть, в этом наше утешение.
И у Хармса есть замечательное утешение. Странным образом доктор всегда и у Хармса, и у Кафки является носителем конечной мудрости. Это восходит к Фаусту, доктор всегда такая фигура, которая знает ответ. Оставшийся без названия рассказ Хармса удивительным образом повторяет фабулу «Сельского врача». Героя Кафки вызывают к юноше, у которого на бедре гнойная язва, полная червей, и доктор понимает, что не может юношу спасти, может только утяжелить его страдания. И у Хармса мечется на постели полупрозрачный юноша, а рядом рыдает кто-то, видимо мать, и стоит кто-то в крахмальном воротничке, видимо доктор. Или, как можем мы подумать, пастор. Юноша спрашивает: «Доктор, скажите мне откровенно: я умираю?» И доктор, а на самом деле, конечно, Хармс, ухмыляясь, отвечает ему прекрасной фразой: «Ваше положение таково, что понять вам его невозможно».
Это звучит страшновато, но вместе с тем утешительно. Когда в эпоху торжествующего абсурда, торжествующей дикости, торжествующего дворника, разорванной традиции, утраты смысла нам кажется, что положение наше безнадежно, что положение наше таково, что мы его осознать не можем, – это значит, возможность чуда для нас остается всегда.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.



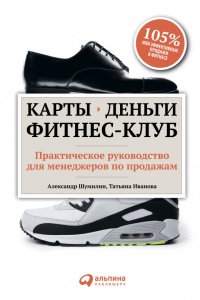

Комментарии