Буэнас ночес, Буэнос-Айрес - Гилберт Адэр Страница 5
Буэнас ночес, Буэнос-Айрес - Гилберт Адэр читать онлайн бесплатно
Как новичок за границей, я трижды осрамился.
В кафе на Больших бульварах я заслужил ухмылку официанта, когда, заказав steak tartare, [9]попросил, чтобы он был bien cuit. [10]В тот же день, ощутив определенную потребность, я решил облегчиться на вокзале Сен-Лазар и, ежась, встал в очередь к кабинкам. Когда моя очередь подошла и я нырнул внутрь, я обнаружил там… пустоту. На месте унитаза зияла дыра в полу. Проклиная свое невезение, я вышел из кабинки и на своем тогда еще запинающемся французском сообщил стоящему за мной в очереди мужчине, который все время обеспокоенно поглядывал на свою машину, припаркованную там, где стоянка была запрещена, о том, что данная кабинка complement vide. [11]Он вытаращил на меня глаза как на сумасшедшего, заскочил в кабинку и запер за собой дверь.
Я злорадно дожидался, что он сразу же ни с чем вылетит оттуда, но вместо этого на меня и на посмеивающуюся очередь обрушились звуки его внутренних залпов, не уступающих увертюре «1812 год», которые автовладелец и не думал приглушать. Тогда я и понял, что если я собираюсь остаться во Франции, дырка в полу — это нечто, к чему мне придется привыкнуть (впрочем, привыкнуть мне так и не удалось). Наконец, во время моих блужданий по городу я все время слышал, как где-то поблизости окликают кого-то по имени Франсуа. «Франсуа! Франсуа! Франсуа!» — доносилось со всех сторон, и я вертел головой на запруженных народом улицах, гадая, кто такой этот ускользающий Франсуа, который срочно нужен стольким людям. До меня дошло, кто, или, точнее, что такое загадочный Франсуа, только когда я увидел на Елисейских Полях мальчишку-разносчика, предлагающего прохожим газету «Франс Суар».
Впрочем, к концу недели я уже почувствовал себя старожилом. Я сам начал покупать «Франс Суар» и даже более или менее преуспел в расшифровке ее содержания. Споткнувшись о порог бара в «Вольтере», я прошипел не «Дерьмо!», а «Merde!» — мое первое не произвольное «Merde!». И когда в пятницу я получил в «Креди Лионне» чековую книжку и выписывал первый чек — за pot au feu [12]в «Липпе», — я решил отпраздновать появление моего нового парижского «я» тем, что сделал начальное «А» своей фамилии миниатюрным подобием Эйфелевой башни. Так я подписываюсь до сих пор.
Пожалуй, пора рассказать о «Берлице» и, в частности, о своеобразной атмосфере, которая царила там в комнате отдыха для мужского персонала: нужно сразу же отметить, что разделение полов среди преподавателей соблюдалось неукоснительно. На протяжении четырех лет, что я проработал в этой школе, со всеми учительницами, кроме одной, я только здоровался; да и с единственным исключением — темноволосой, похожей на старую деву, но все же странно соблазнительной испанкой Консуэло (ее сложную, пишущуюся через дефис фамилию ни произнести, ни запомнить я так и не сумел), — я столкнулся только потому, что, сидя в кафе на Итальянском бульваре (я бывал там после занятий часто — причину я изложу позднее), я попросил у нее спичку, даже не догадываясь, что обра-щаюсь к кому-то из своих коллег.
Итак, комната отдыха для мужского персонала… В ней стоял длинный стол с восемью стульями (еще несколько, как в приемной врача, выстроились вдоль стен), а в углу — шкаф с casiers: [13]запирающимися металлическими ящиками, в которых мы хранили свои вещи. Ни картин на стенах, ни безделушек на столе — только три щербатых желтых рикаровских пепельницы. Кофе — отвратительную бурду — можно было налить в коридоре из большой кофеварки, которой пользовались как преподаватели-мужчины, так и женщины: комната отдыха для женского персонала находилась прямо напротив нашей (официально это не была запретная для нас территория, но мы почему-то относились к ней как к таковой).
Хотя в школе были учителя разнообразных национальностей и самого разного возраста, ежедневно встречавшиеся мне в комнате отдыха, большинство из них в моей жизни существовало сверх программы. Со всеми ними, кроме англоговорящих коллег, я был знаком так поверхностно, что ограничился разбиением их на группы, основываясь на грубых и по большей части расистских стереотипах. Испанцы были смуглыми и усатыми, русские с тяжелыми подбородками носили вязаные галстуки и дешевые рубашки, китайцы выглядели китайцами. Что касается учителей-французов (были и такие), то никто из них, похоже, не стремился подружиться с иностранцами, по-скольку те едва ли собирались оставаться в «Берлице» надолго: так компании избегают нанимать высококвалифицированных специалистов — они тут же увольняются, как только подвернется что-нибудь получше. Я как следует узнал только тех учителей, для кого родным языком был английский; они-то и стали моими первыми друзьями во Франции. Составляя абсолютное большинство, англоговорящие преподаватели оккупировали половину стола в комнате отдыха; как я скоро выяснил, практически все они были геями. Я узнал также, что, как и меня самого, перебраться в Париж их побудило не такое уж редкое в те дни сочетание: любовь к Франции и любовь к мужчинам.
Среди моих соотечественников и полусо-отечественников (я имею в виду американцев) четверым предстояло сыграть существенную роль в истории, которую я собираюсь рассказать. Были, конечно, и другие, но для моего рассказа они не особенно важны. Имелся, например, Крис Стритер, парень из Бристоля, с глазами розовыми, как у кролика, и румяными щечками, похожими на пухлые детские ягодицы; его, задолго еще до моего приезда, прозвали «Кристофер-стрит» в честь нью-йоркского благословенного средоточия геев. Имелся еще Рауль де-как-то-там, француз по происхождению, выросший в Англии, отличавшийся мрачной красотой, билингвизмом и бисексуальностью. Имелся Питер Хиршфельд, молодой бритоголовый американец, который, хоть и был гомосексуален, ничуть меня не привлекал (он обладал одной особенностью, которая доводила меня до кипения: где бы он ни жил, рядом, по его словам, оказывались лучший мясник в Париже, лучший булочник, лучший парикмахер; этой его убежденности ничуть не мешала его манера часто менять квартиры — каждый раз он утверждал, что новые мясник, булочник и парикмахер еще лучше прежних).
Однако, поскольку в отличие от тех, кого я сейчас вам представлю, жизни этих людей никогда тесно не переплетались с моей, будет, наверное, разумно безжалостно выкинуть их из моего повествования и сосредоточиться на Большой Четверке.
* * *
Дуайеном [14]среди англоязычного персонала, как он любил называть себя, всегда подчеркивая кавычки — «Гм-м, как „дуайен“…», — был американец Джордж Скуйлер. Скуйлер (никто никогда не называл его Джорджем) пользовался симпатией всех (включая меня) в школе, и эта симпатия только росла со временем, хотя никто из нас не мог бы сказать, что сумел узнать его как следует. Даже возраст его оставался загадкой: ему могло быть и тридцать пять, и пятьдесят. Скуйлер, несомненно, был геем; предполагалось, что когда он не занят в школе, он пишет роман — роман, о котором он никогда не сообщал ничего, кроме завлекательного названия: «Квартербек собора Парижской Богоматери». Он никогда не проявлял стремления ни подтвердить, ни опровергнуть слухи, которые ходили по школе: будто бы он отпрыск какого-то фантастически богатого семейства с Парк-авеню, которому пришлось отправиться в изгнание из-за необходимости замять скандал (несомненно, связанный с его сексуальной ориентацией). Скуйлер, безусловно, обладал аристократическим лоском, довольно нелепо сочетавшимся с его ролью низкооплачиваемой рабочей лошадки в «Берлице». Лоск по крайней мере мы все видели; о том же, что скрывалось за ним, каждый из нас мог только строить собственные догадки.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


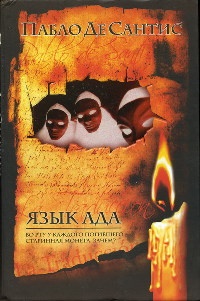
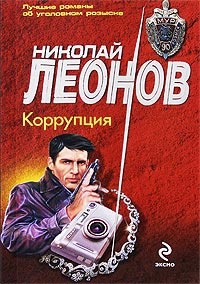
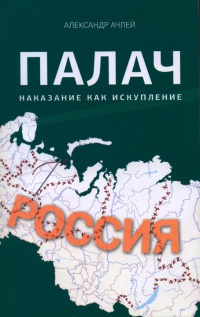
Комментарии