Королевский гамбит - Уильям Фолкнер Страница 36
Королевский гамбит - Уильям Фолкнер читать онлайн бесплатно
Дядя Чарлза говорил, что деньги оставляют даже более глубокий след, чем дух старого стоика, провинциального космополита-домоседа. Быть может, его дядя считал даже, что они сильнее, нежели способность дочери старика к страданию. Другие-то в Джефферсоне точно держались этого мнения. Потому что тот год миновал, и Харрис снова приехал на Рождество, а потом летом на месяц, и теперь научились ходить оба ребенка; то есть должны были научиться, потому что никто в Джефферсоне не взялся бы утверждать это с полной уверенностью, ибо видели их только в проезжающей машине, и старого сеттера уже не было, и в тот год Харрис сдал в аренду всю ферму, до последнего акра, одному человеку даже не из нашего округа, который приезжал за семьдесят миль из Мемфиса во время сева и сбора урожая и ночевал в одной из заброшенных негритянских лачуг до следующей субботы, после чего возвращался в Мемфис.
И наступил следующий год, и весной арендатор нанял собственных работников-негров, так что даже негры, которые жили в старом поместье и поливали пóтом здешнюю землю дольше, чем дочь старика жила на свете, разъехались кто куда, и теперь от прежнего хозяина вообще ничего не осталось, ибо и его самодельное кресло, и его серебряный бокал, и коробки с книгами в захватанных переплетах из телячьей кожи находились на чердаке дома его, Чарлзовой, матери, а в доме жил на правах управляющего человек, арендующий ферму.
Потому что и миссис Харрис в нем больше не было. О своем приближающемся отъезде она Джефферсон заранее не уведомила. Можно сказать, это было нечто вроде заговора, потому что его, Чарлза, мать знала не только что она уезжает, но и куда уезжает, а если знала его мать, то знали и остальные пятеро.
Сегодня она еще здесь, в доме, который, как считали в Джефферсоне, ей никогда не захочется бросить, что бы он там с ним ни сделал, пусть даже дом, где она родилась и прожила всю жизнь безвыездно, за исключением двухнедельного медового месяца в Новом Орлеане, превратился теперь в скопление электрических проводов, и водопроводных труб, и духовок, и стиральных машин, и литографий на стенах, и стандартной мебели.
А на следующий день ее уже нет: и она, и двое детей, и двое негров, которые, даже прожив в сельской местности четыре года, все еще оставались городскими неграми, и даже длинная, сверкающая, похожая на катафалк машина – все они уехали в Европу, как говорили, ради здоровья детей, хотя кто именно это сказал, не знал никто, во всяком случае не его, Чарлза, мать, и никто из тех пятерых жительниц Джефферсона и округа, кто знал, что она уезжает, и уж точно не она сама. Так или иначе, она уехала, бежала от того, что город, возможно, считал, что знает. Но вот в поисках чего, если вообще было что искать, на сей раз не знал или, по крайней мере, не говорил даже его дядя, у которого всегда было что сказать (весьма нередко по делу) о чем бы то ни было, особенно если это его совершенно не касалось.
И вот теперь за происходящим наблюдал не только Джефферсон, но и весь округ, не только те, кого его дядя называл старыми кумушками, что, сидя у себя на террасах, подхватывают сплетни и предположения (может, и надежды), но и мужчины, и не только те мужчины, которым было достаточно прошагать до города шесть миль, но и фермеры, которым надо было пересечь весь округ.
Они приезжали целыми семьями в побитых запыленных машинах и фургонах, а то и на лошадях и мулах, только что выпряженных из плуга, чтобы остановиться по дороге и поглазеть на многочисленные группы странных людей, вооруженных таким количеством всякого оборудования, что его хватило бы для строительства шоссейной дороги или водоема, и межующих, разбивающих на квадраты старые поля, предназначавшиеся некогда просто для выращивания на продажу кукурузы и хлопка, засевающие их кормовой рассадой, фунт которой стоит дороже фунта сахара.
Они ехали в своих машинах, или фургонах, или на лошадях и мулах, миля за милей, вдоль свежевыкрашенной дощатой ограды, разглядывая выстроившиеся в ряд хлева, сделанные из лучшего материала, нежели дома большинства из них, с электрическим освещением, светящимися часами на стенах, водопроводом и окнами, забранными металлической сеткой, чего дома у них не водилось; назад они возвращались на мулах, иногда даже неоседланных, с лемехом, закрепленным на клешне хомута, чтобы не волочился по земле, и смотрели, как из фургонов одного за другим выводят чистопородных жеребцов, и жеребят, и кобылиц, у чьих предков в пятидесятом колене (как сказал бы, но не сказал его, Чарлза, дядя, потому что в тот год он вообще почти перестал говорить о чем бы то ни было) кровь в жилах застыла бы при виде нагнета на холке, как у хозяйки при виде волоска в масленке.
Он (Харрис) перестроил дом. (Теперь он каждую неделю летал куда-то на аэроплане; говорили, что это тот же самый аэроплан, что доставлял виски с берега Мексиканского залива в Новый Орлеан). То есть новый дом должен был занять площадь, на которой уместились бы четыре старых, будь они плотно пригнаны один к другому. Это был просто дом, в один этаж, с террасой под фронтоном, где мог бы сидеть прежний владелец в своем самодельном кресле, с бокалом своего тодди и томом Катулла; когда строительство было закончено, дом выглядел как старый южный особняк, какими их показывают в фильмах, только в пять раз больше и в десять раз «южнее», чем на самом деле.
Теперь он привозил с собой друзей из Нового Орлеана на выходные, растягивавшиеся и на более продолжительный срок, и не только на Рождество и лето, но четыре-пять раз в году, словно деньги текли теперь так быстро и легко, что ему не надо было даже наблюдать за тем, как это происходит. Иногда он даже не приезжал сам, а отправлял их одних. В то время в доме жил управляющий, нет, не тот старый, первый арендатор, но его преемник из Нового Орлеана, которого Харрис называл дворецким: толстяк-итальянец, то ли грек, расхаживавший по дому, пока не появятся гости, в белой шелковой рубахе без воротника и с пистолетом, болтавшимся на поясе. С их приездом он брился и надевал галстук-самовяз из мягкого алого шелка, а также, если холодало, пальто; но с пистолетом он, как говорили в Джефферсоне, не расставался, даже когда подавал к столу, хотя никто в городе, да и во всем округе, этого не видел, ибо за тем столом никто из местных ни разу не сидел.
Итак, порой Харрис оставлял своих друзей на попечение дворецкого. Это были мужчины и женщины, которых окружала плотная атмосфера беззаботной богатой жизни, на вид холостяки и незамужние, хотя иные из них на самом деле могли состоять в браке: странные пришельцы, стремительно разъезжающие в своих больших блестящих спортивных автомобилях и по городу, и по дороге в город, хотя на каком-то своем отрезке она все еще представляла собою проселок, неважно, что уж он там соорудил в самом его конце, – по обочинам, в поисках прохлады, лежали собаки и куры, бродили свиньи, телята и мулы; летали и кружились в воздухе перья, слышались удары, или тявканье, или визг (а если это лошадь, или мул, или корова, или, не дай бог, боров, то несдобровать бамперу, да и крылу), но машина даже не замедляла скорости: а через какое-то время дворецкий обзавелся парусиновой сумкой, набитой монетами и банкнотами и некоторым количеством незаполненных чеков с подписью Харриса; сумка висела на ручке входной двери изнутри; какой-нибудь фермер, или его жена, или ребенок подходили к дому, говорили «свинья», или «мул», или «курица», и дворецкому даже не надо было выходить на улицу, чтобы дотянуться до сумки и отсчитать наличные или заполнить чек, и, получив свое, люди уходили; эти поступления стали дополнительным источником дохода для тех, кто жил на этом шестимильном отрезке дороги, – вроде сбора и продажи черной смородины или яиц.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

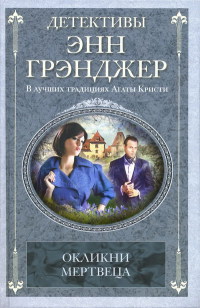

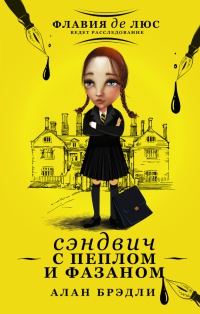
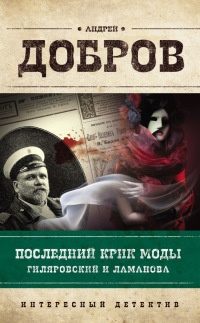
Комментарии