Приговор, который нельзя обжаловать - Надежда и Николай Зорины Страница 36
Приговор, который нельзя обжаловать - Надежда и Николай Зорины читать онлайн бесплатно
Понимает ли она, что это не только ответ на вопрос, что это приговор, эти строчки – увертюра к ее собственной смерти?
Троллейбус трясет, трясет…
Дочитала. Тронула пальцем саднящую губу – прокусила до крови. Достала из кармана платок, но тут же забыла, что с ним хотела делать. И снова вернулась к первой странице.
А ехать еще долго. Этот троллейбус никуда не спешит. Если она будет проглатывать написанное такими темпами, ей хватит времени перечитать рукопись по крайней мере трижды. Интересно, как она все-таки относится к своей литературной гибели? Предчувствует что-нибудь или нет? И если предчувствует, как поступит? Доедет до своей остановки, перейдет дорогу, сядет на обратный троллейбус, вернется домой? Или испытает судьбу до конца?
По лицу не определишь, верит она в свою смерть или нет. Читает, дочитывает, вот и опять дочитала до той самой строчки, в которой гроб с ее мертвым телом глухо ударился о мерзлую землю. Откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза, зажмурилась так, что по всему лицу пошли морщины, стало ясно, что вся ее красота осталась в далеком прошлом, в молодости, которая давно миновала – он ошибся, приняв ее за идеал женской прелести.
Да она сейчас расплачется, разрыдается! Нет, это совсем ни к чему. Не надо плакать, не надо.
Сдержалась. Смотрит за замороженное окно, за которым нет света.
И все-таки еще никогда ему не приходилось наблюдать лицо жертвы, настолько подготовленной к смерти. Пусть до конца она в нее и не верит, а может, и совсем не верит.
Вообще-то поверить трудно, обстановка не та: вокруг так много людей, сиденье так неудобно, лампочки в салоне так тускло мигают, механический голос объявляет остановки. Невозможно поверить в свою смерть, когда от окна так жутко дует, кто-то тебя толкает в бок, а кто-то, не удержав равновесия в тряском троллейбусе, хватает за плечо. Смерть не может иметь такое заурядное лицо, от нее не может пахнуть чесноком и грязной мокрой шерстью. Путь смерти не может быть освещен таким тусклым светом.
Университет. Ее остановка. В голове у него прозвучало: наша остановка. Все правильно, все так: действительно, это их остановка, сейчас они пойдут навстречу смерти вместе, рука об руку: он – надежный проводник, она – послушная доверчивая жертва. Завозилась, готовясь к выходу, – листки рукописи обрели начальную форму: свернуты в трубочку. Так сворачиваешь случайно купленную газету, которую легко забываешь на сиденье (неужели забудет? Нет, не забыла). Лицо тоже обрело первоначальные черты: возвышенная красота и высокая печаль. Не ошибся он: в самом деле прекрасная женщина. Прекраснейшая из женщин за несколько минут до смерти – оттого красота ее еще сильнее и совершенней, расцвет красоты, высшая точка.
Протиснулись к выходу – он впереди, она сразу за ним, остановились у ступенек. Вернее, это он остановился, ей поневоле пришлось затормозить. Тронула его за плечо:
– Послушайте, вы?…
Он обернулся.
– Вы?… – спросила она удивленно.
Не может быть, чтобы она поняла… Не может быть! Он для нее просто один из пассажиров, спина в кашемировом пальто, заслоняющая выход.
– Вы…
Глаза их встретились. Она чуть отшатнулась, прищурилась – да что она все щурится, может, у нее близорукость? Он спокойно выдержал взгляд.
– Вы выходите?
И тут у него что-то разладилось – в голове и в душе. Он улыбнулся смущенно, быстро спустился и, чтобы ощутить прощальное живое тепло ее ладони, подал ей руку. Она доверчиво протянула свою – рука оказалась холодной.
Плакать нельзя. И кричать нельзя. И закусывать руку в неистовом отчаянии. Нужно сощурить глаза, нужно до боли сжать веки, чтобы не выпустить слез. Знаете, я близорука, просто дефект хрусталика, а в этом троллейбусе так темно, что ничего не разберешь. Щуриться, щуриться, чтобы не выпустить слез, прикрываясь лжеблизорукостью. Унять дрожь, впрочем, дрожь вполне объяснима: в этом троллейбусе невыносимая стужа.
Ветер. Сугробы. Я думала, что никогда не прощу, а сегодня простила…
Руки не слушаются, не удерживают листы. Ты никогда не рассказывала мне своих тайн, Сонечка.
С тех пор как мои ритмизованные больные выкрики были определены как стихи, детство мое кончилось. А ведь могло и не кончаться…
Не кричать! Не плакать! Закусить губу, зажмурить глаза, удержать, удержать в себе… Рукам нужен выход, срочно сделать что-то. Левая потянулась к щеке – разрешить дотянуться, не препятствовать, позволить выцарапать красной болью на щеке… Этот троллейбус – Летучий Голландец, куда он несет своих мертвецов?…
Этот троллейбус – обычный троллейбус, обычные пассажиры спешат на работу. Войти в колею… Все они в колее. Спешат на работу. И она спешит на работу. С расцарапанной болью нельзя на работу, переключиться на что-нибудь, дать другой выход. Стекло. Льдинки под ногти – обычная боль вытеснит ту, другую, невозможную боль, спасет от крика. Царапать, царапать, исцарапать до крови стекло… Вытесни, вытесни!
Не вытеснила. Летучий Голландец содрогнулся и поплыл дальше.
Дочитать!
Песню о Летучем Голландце ей пела когда-то мама, давно, много лет назад, когда была еще ее мамой, а не бабушкой Софьи. Низким контральто пела, у нее и в молодости был низкий, чуть ли не мужской голос.
А потом родилась Софья, стала поэтом и отняла у нее маму. Вероника появилась на двенадцать лет раньше, и не отняла – мама ее никогда не была бабушкой Вероники, не любила она Веронику, оставалась ее мамой – и никем больше. И пела ей про Голландца, как в детстве, и темное, страшное место о том, как ужасный кок приготовил паштет из синей птицы, больше не пугало ее. А потом появилась Софья.
«То, чего не было» – так назвала она свое последнее произведение, исповедь-обвинение. Как же ей теперь дальше жить? Что делать ей с «тем, чего не было»?
А оно ведь было. Все так и было.
Тяжелобольные дети – тоже дети, у них-то никто не отнимает права на детство.
А она отняла. И теперь боится признать свою вину. Боится, что слезы подточат плотину век, хлынут и унесут этот сумеречный троллейбус в вечное плавание, вместе с ее страхом и виной. Прячет лицо в исписанные ее мертвой дочерью листы.
Мои недетские стихи – это только недетская боль…
Спрятать лицо, спрятать, спрятать, зарыть в листы! Так когда-то она зарывала лицо в волосы своей маленькой Сонечки, по-детски мягкие, впитывала запах наивного детства… От волос пахло шампунем «Маленькая фея», Соня вздрагивала лопатками, запрокидывала голову и смеялась, смеялась…
Неправда! Все это неправда. Никогда этого не было. Не было детской наивности, не было детского жизнерадостного смеха – умилительно бессмысленного смеха, который исходит от всего существа ребенка. А вместо этого… Недетские стихи – недетская боль. Шампунь «Маленькая фея» – единственное, что было детского в Сонином недетском детстве. И никогда – никогда, никогда! – не зарывалась она в волосы своей маленькой Сонечки. Да и Сонечки не было – была Софья Королева.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.



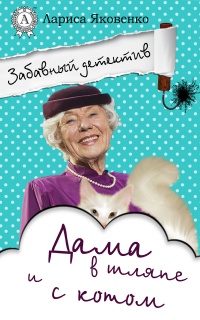

Комментарии