Приговор, который нельзя обжаловать - Надежда и Николай Зорины Страница 2
Приговор, который нельзя обжаловать - Надежда и Николай Зорины читать онлайн бесплатно
В сущности, виноват во всем был именно он, поэт Артемий Польский – не мама, не папа, не Вероника, а он. Родители и сестра всего лишь не захотели отказаться от причитающихся льгот за мой дар. Им по праву полагались эти льготы, как пособие по уходу за больным родственником. В конце концов, родителям и Веронике столько пришлось вытерпеть! Нелегко жить в одной квартире с человеком, у которого каждый день тяжелый приступ – им ведь приходилось оказывать мне необходимую помощь, мучиться. А Артемий совсем другое дело. Впрочем, и славой своей я обязана именно ему. Это он, Артемий Польский, добился первой публикации, организовал первый и все последующие сборники – всего их вышло три. Он забрал мое детство, но дал взамен славу.
А с Соней мы по ночам переговаривались через стенку. Я посвящала ей свои стихи. А однажды мне удалось подсмотреть детский праздник, устроенный мамой в честь дня ее рождения.
Я поняла, куда подевалась моя красная собака – ее переправили Соне в комнату.
Снег. Завывание ветра – заунывные звуки похоронного марша.
Сколько любви, сколько ненависти обрушилось на меня после первой же публикации! Моим стихам не поверил никто: такой маленький ребенок не может писать такие стихи! И все же меня любили – как мечту, неосуществимую, но, посмотрите-ка, возможную. И ненавидели – как мечту, неосуществимую свою мечту, тайную мечту, украденную, разоблаченную, выставленную на всеобщее обозрение. Однажды одна четырнадцатилетняя девочка призналась, что хотела меня убить, потому что выносить мои стихи, написанные не ею, не могла. Однажды одна взрослая – взрослая женщина призналась, что хотела меня украсть – то, что я не ее ребенок, – ошибка. Однажды один молодой человек признался…
Они ничего не знали, совсем ничего обо мне не знали. А если бы узнали, не поверили бы. Мои недетские стихи – это только недетская боль. Нечеловеческая боль. Боли не верили. Никто не верил. Артемий Сергеевич Польский и тот не верил. И мама, и папа…
Хуже всего было то, что я постоянно находилась на публике и даже дома ни на минуту не оставалась без надзора, разве что ночью. После первого витка славы мама уволилась с работы и все время находилась при мне – караулила приступ, боялась потерять хоть пылинку драгоценного продукта. Я долго не могла научиться бегло писать – записывать свои стихи, и потому была зависима от окружающих. Но когда мне исполнилось восемь, в первый раз у меня это получилось. И тогда я потребовала, чтобы на дверь в мою комнату поставили замок. Мне просто необходимо было уединение. Мама отказала наотрез, папа ужасно возмутился, Вероника сказала, что в таком случае и она станет запираться. А бабушка вызвала слесаря, и замок поставили. Вскоре после этого ее и изгнали.
Бабушки я лишилась. Зато обрела желанное одиночество. И свободу. Я вообще открыла для себя большое количество возможностей.
Что я делала, запершись в комнате? Первый месяц просто отдыхала и наслаждалась полученной свободой. А когда отдых-отпуск кончился, придумала себе увлекательнейшее занятие: подглядывала за людьми – сквозь оконное стекло, сидя на подоконнике, или сквозь сомкнутые веки, лежа на кровати. Человеческие образы толпились у меня в голове, но никогда не выходили стихами. Мои стихи были совсем не о них. О чем же тогда я писала? О древней старухе, живущей в ветхом домишке на вершине горы – «год или два – станет гора одинокой», о чужом человеке, живущем у меня за стеной: я слышу его, знаю, о чем он плачет, но однажды вдруг понимаю, что нет там никакого чужого человека, что человек этот – я, порожденная чьим-то больным сознанием. Но чаще всего я пишу о мертвом ребенке: о мертвом ребенке, которому запоздало принесли в подарок красную меховую собаку, о мертвом ребенке, которого не пригласили на детский праздник, о мертвом ребенке, не простившем обид, о мертвом ребенке, так и не ставшем ангелом. Вот эти-то стихи я никому не показываю, заботливо укладываю в тайник. Возможно, когда-нибудь я подарю их бабушке.
К снежному голосу ветра прибавился медный звук – труба и ветер поют дуэтом прощальную песнь.
Первым моего затворничества не выдержал папа. Выманил меня шахматами. Шахматы явились поводом для совместного семейного времяпрепровождения: папа учил меня играть, мама и Вероника пристраивались по бокам. Иногда к нам присоединялся Артемий Сергеевич.
Ученицей я оказалась крайне неспособной: путала названия фигур, никак не могла запомнить ходы, проникнуть в суть этой увлекательной, на взгляд отца, игры. И тогда папа, намучившись со мной, бестолковой, попытался зайти с другого края – придать этой математической игре поэтический оттенок.
– Посмотри, это бальный зал, – он нежно провел ладонью по расквадраченной доске, – сейчас начнутся танцы. И-раз, и-два – госпожа Белая Пешка выходит на середину зала, кланяется. Госпожа Черная Пешка повторяет фигуру. Его благородие Белый Офицер…
Мама растроганно улыбалась, Вероника слушала внимательно, словно это ей объясняли, Артемий одобрительно кивал, и вдруг, словно его осенила Бог весть какая гениальная мысль, сорвался с места, поставил музыку – «Экосез» Бетховена. Подошел ко мне, поклонился, как до этого кланялась пешка, пригласил на танец. Я не двинулась с места, Соня поднялась, улыбнулась своему кавалеру, подала ему руку…
– Выход Королевы! – провозгласил отец и стал двигать фигуру по диагонали доски.
Соня улыбалась, улыбалась, так обаятельно она улыбалась. Ее чуткие ножки двигались в такт. Артемий, не замечая подмены, добежал с ней в танце до конца бального зала. Музыка соскользнула в легато и кончилась.
Мы снова обратились к шахматной доске – там бал продолжился.
Теперь каждый вечер у нас проходили шахматно-музыкальные занятия. И каждый вечер приходил Артемий. Играть я так и не научилась, зато преуспела в танцевальном искусстве – движения мои стали ритмичными и плавными, почти как у Сони. Но главное не это. Наши шахматные сходки вдруг привели к совершенно неожиданному открытию: у моих приступов болезни может быть и другой выход, не только стихи – музыка.
Музыка стала причиной следующего этапа моего затворничества. Музыка стала новым яблоком раздора в нашей семье. Моя страсть к музыке чуть было не выдворила из нашего дома Артемия.
Началось с Баха. Артемий Сергеевич как-то вечером принес новый диск, посчитав, вероятно, что одной танцевальной музыки для шахматных экзерсисов недостаточно, пора пересмотреть репертуар, пустить игру в новое русло. Это были скрипичные концерты. Предчувствие близкого разрешения меня тогда ужасно взволновало и породило почти безболезненный выход нового стихотворения – не самого моего лучшего, но до сих пор любимого за эту безболезненность. Мама бросилась его записывать, а я потребовала у Артемия «главной музыки». Как лучше выразить свою мысль, я не знала, только сразу поняла, что это не все, есть что-то другое, большее, гораздо большее, оно-то мне и нужно. И он меня понял и на следующий день принес органные фуги.
Шахматные вечера на этом закончились. Я без всякого спроса перенесла в свою комнату музыкальный центр и снова закрылась от всех.
Бах спасал от стихов, Бах лечил мою искалеченную душу. Я слушала фуги и набиралась сил для того, чтобы жить дальше. За целый месяц я не написала ни одного стихотворения. А за дверью моей замкнутой комнаты то и дело вспыхивали скандалы: мать обвиняла отца, отец обвинял Артемия, Артемий, непонятно уже в чем, обвинял Веронику.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.



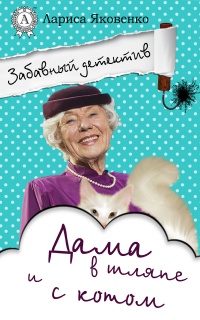

Комментарии