Дездемона умрёт в понедельник - Светлана Гончаренко Страница 17
Дездемона умрёт в понедельник - Светлана Гончаренко читать онлайн бесплатно
И Юрочка двинул по розовому одеялу задаток. Самоваров взорвался:
— Да вы что, белены объелись? Уберите ваши деньги! Что за чушь! Выкиньте это из головы! С чего вы взяли, что это Карнаухов? С чего вы взяли, что милиция не разберется? С чего вы взяли, что я крутой Уокер и могу кого-то сажать? Я понимаю, вы расстроены, плакали и все такое… Но всему есть мера!
— Так вы отказываетесь проводить расследование?
— Господи, какое расследование! Заберите ваши деньги!
— А может, возьмете все-таки? Я вам и меду принесу. Вы подумайте, немножко подумайте сперва! А я — все, что имею… Лишь бы его посадили! Все, что имею…
«Сейчас пиджак малиновый предлагать начнет», — с тоской подумал Самоваров, а вслух сказал:
— Хорошо, хорошо! Возьмите пока деньги, а там видно будет. Ну вот, слезы опять! Фи! Идите к себе, поспите. Выпейте, что ли! А там видно будет…
— Вы оставляете надежду? — всхлипнул Юрочка.
— Если вы сейчас уйдете, оставляю.
Юрочка собрал деньги
— Вон еще возле подушкидесять копеек! идите, идите… На кухне Кыштымов сидит — вот и выпейте с ним, — торопил Самоваров.
Когда удалось наконец вытолкать Уксусова, Настя задумчиво сказала:
— А мне его жалко. Переживает. Видно, что очень ее любил.
— Ее все любили.
— А какая она была? Красивая? Жалко, я ее не видела.
Самоваров рассказал про давешние потасовки и про Таню — все, что знал.
— Надо же! — изумилась Настя. — Она, конечно, была необыкновенная.
— И допрыгалась, как верно заметили скорбящие. А нас к трем Шехтман в театре ждет. Касса пуста, премьера через две недели.
Шехтман тосковал в своем кабинете. И прежде гримаса у него на лице была несколько понурая, а сейчас гримаса эта настолько прорисовалась, что жалко было смотреть. «Еще инфаркт его снова хватит», — подумалось Самоварову, когда режиссер едва слышно излагал Насте свои соображения про накладки для принцев и марлю для роскошного дворца. Старческие веки Шехтмана тяжело лежали на неподвижных глазах, седины поникли, плечи горбились под вязаной кофточкой, на которой сплошь висели затяжки. Он со вздохом отмахнулся от принцесс и горошин, обхватил виски руками:
— Безмерное горе для меня! Такое злодейство, так неожиданно! Я не знаю, как дальше жить.
Самоваров заикнулся о неизбежности потерь и о том, что надо держаться.
— Э! — застонал Шехтман. — Вы так мало, должно быть, видели потерь! Я последние годы жил только потому, что была Таня. Одинокая старость — это неприятно. Нет, у меня есть родственники, даже здесь, в Ушуйске, две племянницы. Не в этом смысле, не подумайте! У меня сын в Москве, чудесный одаренный ребенок, он сценограф, с самим Кельцевичем работает. Второй сын, тоже одаренный ребенок, в Израиле. Он, как и я, режиссер. Все хорошо! Все великолепно!.. Нет, я не в этом смысле… Я-то вполне еще живой! Я с трех лет на сцене! Я шестьдесят лет в театре — и вдруг откуда ни возьмись Мумозин… Впрочем нет, Мумозин позже появился, после смерти Лилечки (Лиля — это моя жена)… А до него был тот юноша, что ставил «Палату № 6»… Или этот тоже после Лилечки?.. Не в этом дело! Да, я болею, я всегда на больничном, но разве это значит, что меня надо кем-то заменять? Где подобное видано в творческих кругах? Здесь театр или свиноферма? Душой-то я в театре! А эти злодеи гонят меня на инвалидность, приглашают каких-то невежественных самозванцев, и те насаждают здесь дурной вкус, клюкву! Да, я на больничном. Но мои спектакли держатся годами! Они профессиональны! Я в превосходной творческой форме! Неважно, где бьется моя беспокойная творческая мысль — здесь или на больничном!
Шехтман ожил, раскочегарился, в тусклых глазах заметались искры.
— А Таня? — вдруг пискнула Настя.
— Да, Таня! — охотно подхватил Шехтман. — Я в театре шестьдесят лет, я с трех лет на сцене, и такой актрисы я не видел! Она появилась, и ко мне пришло второе дыхание. Я забыл про больничные! Я ставил, ставил и ставил, как никогда в жизни. По две премьеры в месяц! «Гроза», «Мария Стюарт», «Ушуй — река шальная», «Двое под мостом»… Таня, Таня! Она ведь была актриса трагическая — сюда, сюда смотрите!
Он постучал по стене так энергично, что на хлипкой книжной полке покосились и запрыгали какие-то томики. Самоваров сейчас только понял, что у Шехтмана вся стена — в Таниных фотографиях. Всюду была она — в грубом сценическом гриме, малоузнаваемая, но — она.
— Поглядите! Трагическая актриса по природе. Поглядите — а? Лицо какое: уголки губ вниз, нос прямой идеально — профиль, профиль! — а глаза маленькие, но огненные. Узнаете лицо? Нет? Ну же! Екатерина Семенова (Пушкина помните — «сама трагедия»)! Мария Ермолова! Вот такие суховатые лица, такой чеканки, да? То-то! — клокотал Шехтман. — А играла! С полуслова брала! Возбуждалась мгновенно! Что-то невероятное. Здесь никто и не понимал, с чем дело имеет — играет хорошо, и все. А она-то в ином измерении жила, когда душа улетучивается, и в тело вместо нее нисходит другая. Это ведь страшное напряжение, медиумическое почти, после которого нет сил — а тут вокруг черствые ремесленники, у которых только глотки и конечности. И мужчины не того сорта…
— Вы имеете в виду ее брак? — спросил Самоваров и застеснялся: вышел вопрос сплетника. А с другой-то стороны, все ведь думают, что ее Геннаша-Отелло задушил!
Шехтман и глазом не моргнул.
— И брак, и все прочее. Они ведь все от нее не того требовали: кто клятв каких-то, кто щей да котлет с пюрешкой. Пигмеи! Этот рептильный Мумозин в «Воровке» велел, чтобы она на сцене резала настоящий салат оливье и по-настоящему его съедала. Это его реализм! И при этом самым пошлым образом приставал. А этот Владислав! А этот даровитый, но низкий Кыштымов! А Глеб, тоже даровитый, но… Непереносимо! Как ей разобраться было в этом кишении инфузорий?! Не берегли ее, а наоборот, эксплуатировали, терзали, требовали щей, а не получили — и вот… Конец.
Шехтман откинулся на спинку стула, пошарил в кармане и быстро сунул что-то в рот. Он сидел, стянув губы колечком, тяжело, всей шеей, глотал, и из его глаз лучиками по морщинкам сочилась слезная влага. «Не хватил бы инфаркт старика», — снова подумал Самоваров.
— Вы думаете, я сейчас умру? — угадал Шехтман его мысли. Плача, он подглядывал из-под толстых лиловых век. — Нет! Я уже умирал, и я уже выжил. Я берегу себя! И у меня хорошие лекарства и врачи. Но сегодня я умер как художник. Я не хочу больше ставить спектаклей. Эту «Горошину» как-нибудь дотяну, а больше не хочу. Смысла нет. Ее нет! Всем на радость я наконец уйду. Чудовищный Мумозин может спать спокойно: искусства здесь больше нет! Пермяковой нет! Шехтмана нет! Остаются горы реалистического снега из ваты и психологический салат оливье.
Он шумно задышал:
— Все! Я уезжаю в Израиль. Володя зовет, я уезжаю. Девочка, не надо делать такое кислое лицо. Вы же не собираетесь постоянно проживать в Ушуйске? Ну, и хорошо. Значит, и у вас все может неплохо сложиться.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


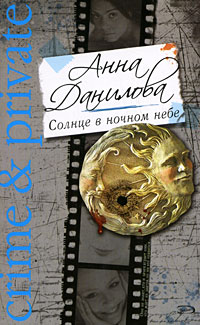
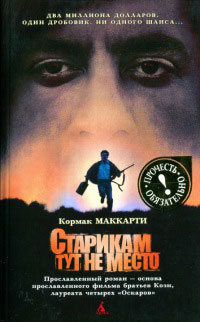
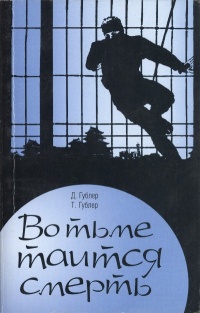
Комментарии