Маленькая жизнь - Ханья Янагихара Страница 45
Маленькая жизнь - Ханья Янагихара читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Попался он в тот же день, когда украл самый ценный трофей: серебряную зажигалку отца Гавриила. Он стащил ее прямо у него со стола, когда тот прервал свои нравоучения, чтобы ответить на телефонный звонок. Едва отец Гавриил склонился над клавиатурой, как он схватил холодную тяжелую зажигалку со стола и сжимал ее в кулаке до тех пор, пока его наконец не отпустили. Выйдя из кабинета отца Гавриила, он поспешно засунул зажигалку под майку и заторопился к себе в комнату, но, завернув за угол, врезался в брата Павла. Чтобы брат не начал на него кричать, он поспешно отскочил, и зажигалка вывалилась, запрыгала по каменным плитам.
Разумеется, его избили, на него накричали, и после всего этого отец Гавриил в качестве последнего (как он думал) наказания вызвал его к себе в кабинет и сказал, что преподаст ему урок, чтоб неповадно было красть чужое. Он смотрел, ничего не понимая, но перепугавшись так, что не мог даже плакать, как отец Гавриил сначала смочил платок оливковым маслом, а затем втер масло в тыльную сторону его левой руки. А потом отец Гавриил взял зажигалку — ту самую, украденную — и держал его руку над пламенем до тех пор, пока не занялось масляное пятно на коже, и всю ладонь разом охватило призрачным, белым жаром. Он кричал, кричал, и тогда отец ударил его по лицу, чтоб перестал кричать. «Хватит орать! — проорал он. — Ты это заслужил. Теперь на всю жизнь запомнишь, что воровать нельзя».
Очнулся он у себя в кровати, с перебинтованной рукой. Все его вещи исчезли, и не только украденные, исчезло все, что он сам отыскал: камешки, перья, наконечники стрел и окаменелость, которую ему подарил брат Лука, когда ему исполнилось пять, его самый первый подарок.
После этого, после того, как он попался, он должен был каждый вечер приходить в кабинет отца Гавриила и раздеваться, чтобы отец мог проверить, не припрятано ли у него чего внутри. Потом, когда все стало еще хуже, он все думал о той пачке крекеров: если бы только он их тогда не украл. Если бы только он сам все не испортил.
Припадки начались у него после вечерних осмотров отца Гавриила, к которым скоро добавились и дневные — с братом Петром. Он бился в истерике, колотился о каменные стены монастыря, кричал что было мочи, молотил больной изуродованной рукой (которая и спустя полгода еще иногда побаливала, боль неотступно пульсировала где-то внутри) о грубые острые углы деревянных столов, бился затылком, локтями, щеками — самыми болезненными, самыми нежными частями тела — о край парты. Припадки случались у него и днем и ночью, он их не контролировал, они наползали на него туманом, и он проваливался в них, его тело и голос начинали вытворять что-то одновременно и волнующее, и мерзкое, и хоть потом у него все болело, он знал, что братья его боятся, боятся его злости, его криков, его силы. Они били его всем, что попадет под руку, они повесили в классной комнате на гвоздь ремень, они снимали сандалии и били его так долго, что на следующий день он даже сесть не мог, они называли его уродом, они желали ему смерти, они говорили, что нужно было его бросить в мусорной куче. И за это тоже он был им благодарен, за то, что помогали ему себя изматывать, потому что один он не мог заарканить этого зверя и нуждался в их помощи, чтобы его отогнать, чтобы тот, пятясь, уполз обратно в клетку до тех пор, пока снова не вырвется на свободу.
Он стал мочиться в постель, и его заставили чаще ходить к отцу Гавриилу, чтобы тот его чаще осматривал, и чем чаще отец его осматривал, тем чаще он мочился в постель. Тогда отец стал приходить к нему по ночам, и брат Петр стал приходить к нему по ночам, а потом и брат Матфей, и все стало еще хуже: его заставляли спать в мокрой ночной рубашке, его заставляли носить ее днем. Он знал, что от него жутко воняло, мочой и кровью, и он кричал, бесновался, выл, срывал уроки, спихивал со столов книги, чтобы братья начали его избивать и прервали занятия. Иногда от сильного удара он терял сознание и вскоре только этого и жаждал, этой темноты, где время шло и где его не было, где с ним что-то делали, но он об этом не знал.
Иногда у его припадков были причины, хотя, кроме него, никто этих причин не знал. Он беспрестанно чувствовал себя грязным, замаранным, словно он гнил изнутри, как старое здание, как обветшалая церковь, которую ему показали в один из его редких выездов за пределы монастыря: балки испещрены плесенью, стропила рассохлись и насквозь проедены термитами, сквозь дырявую крышу бесстыдно проглядывают треугольники белого неба. На уроке истории ему рассказали про пиявок, и он узнал, что много лет тому назад считалось, будто пиявки могут высосать из человека больную кровь, жадно, глупо накачивая недугом свои жирные гадкие тельца, и теперь в свободное время — час после уроков, перед работами — он бродил в ручье на границе монастырских земель, искал себе пиявок. Когда он не сумел найти ни одной, ему сообщили, что в ручье пиявки не водятся, и тогда он принялся кричать и кричал, пока не сорвал голос, и даже тогда все кричал, даже когда ему стало казаться, будто горло полнится горячей кровью.
Однажды он был у себя в комнате, и с ним там были и отец Гавриил, и брат Петр, и он старался не кричать, потому что уже понял, что чем тише он будет себя вести, тем быстрее все кончится, как вдруг ему почудилось, будто за окном быстро, как мотылек, промелькнул брат Лука, и ему стало стыдно, хотя тогда он еще не знал слова, которым можно было бы назвать это чувство. Поэтому на следующий день он в свой свободный час пошел в сад брата Луки, посрывал головки у всех нарциссов и свалил их в кучу на пороге его садового сарайчика — их рифленые венчики тянулись к небу, будто раззявленные клювы.
Позже, работая в одиночестве, он пожалел о своем поступке, и тоска отяжелила его руки, он выронил ведро с водой, которое таскал из одного угла комнаты в другой, рухнул на пол и закричал от горя и раскаяния.
За ужином он не мог есть. Он искал брата Луку и все думал, когда и как его накажут и когда нужно будет извиняться перед братом. Но Луки не было. Разнервничавшись, он уронил жестяной кувшин с молоком, холодная белая жидкость растеклась по полу, и сидевший рядом брат Павел столкнул его со скамьи на пол. «Вытирай! — рявкнул брат Павел, кинув ему тряпку. — Но другой еды не получишь до пятницы!» Была среда. «А теперь иди в свою комнату». Он убежал, пока брат не передумал.
Он жил в самом конце коридора, на втором этаже над столовой, и дверь в его комнату — бывший чулан без окон, где помещалась одна койка — всегда стояла нараспашку, закрывали ее, только когда с ним был кто-нибудь из братьев. Но едва он взбежал по лестнице и завернул за угол, как увидел, что дверь закрыта, и какое-то время топтался в пустынном, тихом коридоре, гадая, кто его там поджидает. Быть может, кто-то из братьев. А может, чудовище. После случая с ручьем он иногда грезил о том, что сгустившиеся в углах тени — это огромные пиявки, черные и жирные, с лоснящимися, членистыми покровами, которые только и ждут, покачиваясь, чтобы навалиться на него своим влажным, беззвучным весом. Наконец он набрался храбрости и кинулся к двери, рванул ее на себя, но в комнате было пусто — одна его койка с грязно-коричневым одеялом, коробка салфеток и учебники на полке. И тут он заметил, что в углу, у изголовья стоит в стеклянной банке букет нарциссов — яркие горлышки, оборчатые верхушки.
Конец ознакомительного фрагмента
Купить полную версию книгиЖалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

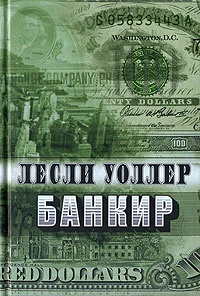


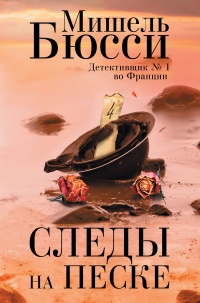
Комментарии