Начало, или Прекрасная пани Зайденман - Анджей Щиперский Страница 38
Начало, или Прекрасная пани Зайденман - Анджей Щиперский читать онлайн бесплатно
Но ведь тогда, стоя у стены дома на улице Ксенженцей, этого не могли предвидеть двое юношей, которые любили Командующего, часто говорили о Ромуальде Траугутте [73], мечтали об атаке под Рокитно [74]. Они делали лишь первые неуверенные шаги по болотистой почве тоталитаризма, и оба готовы были скорее умереть, чем по шею увязнуть в ней.
— Пожалуй, я пойду, — сказал Генрик.
Павел молчал. Еще взлетел голубь. Еще в глубине подворотни промелькнула фигура женщины в зеленом платке на плечах. Звонок трамвая на Новом Свете, его красное тело, возникающее из-за угла, как жестяной дракон, игрушка для маленьких мальчиков, для Генричка и Павелека.
Он ушел. И сразу исчез. Павел посмотрел на небо. Оно было очень голубое, апрельское. Лишь где-то с краю, над крышами, медленно передвигалась грязная полоса смерти.
Возможно ли, что уже тогда он испытал ощущение некоего начала, не конца? Возможно ли, что именно в тот момент, когда фигурка Генрика исчезала у него из глаз, он понял — отныне начинается новая глава, которая будет длиться бесконечно, всю жизнь? Позднее он уже не сомневался в этом. Именно в тот день, часто думал он потом, я понял, что начинается пора разлук, прощаний и вечных тревог. Но не только в разлуках было дело. Уход Генрика стал правда первым прощанием для Павла. Потом их было еще много. Может, более душераздирающих, хоть и не столь сильно пережитых, так как уже никогда ему не было девятнадцать лет, когда каждый уходящий человек забирает с собой чуть ли не весь мир, оставляя лишь ни на что не годные крупицы. Позднее он научился склеивать собственную жизнь из разбитых черепков, за которые ни один разумный человек не дал бы и гроша. Да и не он один научился этому. И все же не только в разлуках было дело. Конечно, Генрик был его первым другом и, уходя, забрал с собой детство и прекраснейшие мгновения юности. Но почему, однако, потом, через много лет, он вспоминал не только фигурку юноши в двубортном пальто, исчезающую за углом улицы, чтобы никогда не появиться в мире живых, но и ту грязную полосу дыма на небе, зависшую, как ржавая тряпка, над крышами варшавских домов? Почему с той самой минуты небо над его головой уже навсегда должно было казаться грязным, линялым, даже если и сияло на нем порой какое-нибудь героическое зарево?
Спустя полтора года, когда Генрика давно уже не было в живых, все небо над городом, от края до края, было затянуто дымами и отсветом пожаров. Павел не вспоминал тогда о расставании с Генриком, он даже не помнил вчерашнего дня, последнего часа. Жил в бою, на баррикаде восстания. Думал о винтовке, которая была частью его существа. Самой важной частью, поскольку от нее зависело все. Но и тогда ему сопутствовало ощущение безнадежности, он снова расставался и прощался. От него уходили дома и улицы, парки и скверы, памятники и люди. С каждым часом восстания Павла становилось все меньше, он сокращался и уменьшался, проваливался в бездну и исчезал, как его город. Потом все это назвали предательством, еще позднее — прекрасным безумием и, наконец, — трагедией, в которую он оказался вовлечен помимо его воли и без права выбора. Он, однако, никогда не ощущал себя ни предателем, ни безумцем, ни тем более статистом в чуждой ему драме. Что же касается других, у него никогда не было полной уверенности, что они свой долг исполнили достойно и что действительно хотели его исполнить. Но он не стремился быть судьей своих ближних, даже если они и бывали порой его судьями.
Небо казалось ему всегда грязным и неприязненным. Возможно, из-за того, что какое-то время он испытывал сомнения в Боге. Но и позднее, уже вновь обретя веру, не обрел надежды. Его постоянно преследовало чувство, что во время войны он утратил нечто значительное. Позднее снились ему европейские города, которых он не знал и никогда не видел. Снились соборы, замки, мосты и улицы. То были сны, в которых ему было хорошо, правда, после пробуждения он вновь ощущал какую-то утрату. Потом путешествовал по Европе. Чужак, пришелец из далеких краев. И тогда он лишился своих снов. Все те соборы, замки и мосты действительно существовали, однако ему не принадлежали, он был там посторонним. Мое европейское сознание больше не существует, говорил он себе с горечью, может, оно даже никогда не существовало, а может, было лишь иллюзией, жаждой подлинности, которая никогда не была нам дарована? Он обнаруживал в себе некий варварский трагизм, то ли недостаток, то ли избыток чего-то такого, с чем уже невозможно было найти свое место в европейских соборах и на мостах над реками Европы. Впрочем, и над Европой небо было не лучше. Он возвращался оттуда с облегчением, чтобы снова грустить. В этом ему виделся своеобразный комизм, который был для него хоть каким-то утешением. Ведь если бы он не ощущал комизма, ему оставалось только признать себя калекой. В конце концов лучше иметь торчащие уши, чем короткую ногу.
Неужели именно Генрик отнял у него всякую надежду? Павел отдавал себе отчет в бессмысленности подобных обвинений. Живой Генрик наверняка не слишком отличался бы от Павла. Они оказались обворованы в одинаковой степени. Генрик был в лучшем положении, так как не знал об этом. Он мог, умирая, полагать, что когда-нибудь все будет по-другому. И действительно, стало несколько по-другому. Спустя некоторое время перестали убивать людей, по меньшей мере в Европе, и даже на ее окраинах. То был огромный прогресс, и Павел благословил день, когда закончилась война. Только безумцы не благословляли тот день. Только глупцы, ослепленные своей принципиальностью, не замечали разницы. Если Польша стала не совсем такой, какой они жаждали, если даже она стала совершенно не такой, то ведь для тех, кто уцелел, уже сам по себе факт их спасения был вполне достаточен, чтобы благословлять его. Как-никак — Павел жил, а Генрик был мертв. И Павел отдавал себе отчет в этом различии. И все же через десять лет он почувствовал усталость, а через двадцать — парализующую скуку. Сколько можно праздновать факт, что человека не убили? — спрашивал он себя. Подобный вопрос был особенно уместен, потому что вокруг люди умирали от старости, болезней и роковых случайностей. А для тех, кто умер, было в общем-то безразлично, каким способом переступили они порог вечности. Не было особой разницы между стариком, застреленным на улице оккупированной Варшавы, и его ровесником, который умер от рака лет через пятнадцать. Возможно, застреленный меньше страдал и не так долго боялся. И нет видимой разницы между ребенком, сгоревшим в пожарах войны, и тем, кого переехал пьяный шофер, когда тот бежал в школу во времена прочного мира. Матери плакали одинаково. То, что казалось прекрасным в 1945 году, несколько лет спустя стало лишь очевидностью, а еще через некоторое время оказалось скучным и банальным. И теперь не война была страшна, а мир. Для тех же, кто вообще не испытал войны на себе, поскольку появился на свет после ее окончания, этот банальный мир, то есть — самая обычная жизнь на земле, становился невыносим. Павел старел, он помнил прошлое и благодаря этому был в несколько лучшем положении. Ведь он всегда мог вспомнить ад более совершенный. Однако подобное утешение не было достаточно долговременным и действенным, чтобы жить в надежде. В сущности, Павлу докучало его чувство собственного достоинства. Оно было, как прыщ в носу. Ни учуять, откуда ветер дует, ни появиться в общественном месте с высоко поднятой головой.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.



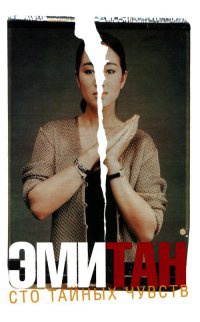
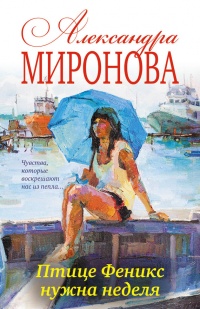
Комментарии