Эмиграция как литературный прием - Зиновий Зиник Страница 36
Эмиграция как литературный прием - Зиновий Зиник читать онлайн бесплатно
Дублин постоянно перестраивается, поскольку дома разрушаются на глазах: ни у кого нет ни желания, ни сил производить ремонт. Вместо городских особняков вырастают бетонные коробки. Даже отель «Блум» (в честь джойсовского героя Леопольда Блума) — стекло и бетон, хотя туалет в отеле оклеен обоями с цитатами из «Улисса». Такое впечатление, что дублинцы уничтожают материальные воплощения чужеродных идей с религиозным ражем разрушителей идолов. Но тут, скорее, не иконоборчество, а просто наплевательство и инстинктивный эгалитаризм (не исключающий, как и в России, зуда выделиться любым способом из толпы себе подобных). Эта индифферентность не исключает, впрочем, и мстительности в отношении тех, кто вырвался из дублинского порочного круга самоотвращения и тайной гордыни.
До 60-х годов при упоминании имени Джойса дублинцы плевались. Их можно понять. Как, скажите на милость, относиться к писателю, назвавшему твою родину-мать «свиньей, пожирающей собственных поросят»? Перед тем как дублинская «джойсиана» стала привлекать тысячи туристов и, соответственно, деньги в карман дублинцев, соотечественники Джеймса Джойса с какой-то злорадной снисходительностью позволили местным властям разрушить дом жены Джойса, Норы Барнакл, где Джойс поселил своего Блума. В наши дни Леопольд Блум — чуть ли не народный кумир. Мотив психологического самоистязания свойствен ирландцам в той же степени, что и русским: как иначе можно объяснить тот факт, что героем этого города-католика стал еврей-прохиндей? Но церковь взяла свое: на месте разрушенного дома Леопольда Блума было построено новое крыло больницы The Mater Misericordiae. По иронии судьбы, здесь закончил свои дни капелланом предтеча «лишних людей», русский эмигрант и монах ордена редемптористов (искупителей), знакомый Герцена и Огарева, попавший в виде пародии даже в роман «Бесы» Достоевского, Владимир Сергеевич Печерин (1807–1885).
Конечно, следовало бы помнить (из биографии Гершензона), что этот исторический персонаж, попавший на страницы чуть ли не всей русской литературы, оказался в конце концов в Дублине. Но я недооценивал, насколько все это близко, конкретно и страшно — оказаться в маленьком и тесном городском закутке мира, где каждый считает себя гением и погода меняется ежеминутно. Эта переменчивость отчасти соответствовала и его собственному темпераменту. Этот ученый-классицист, знаток Древней Греции и Рима, оставшийся в Европе вопреки настоятельным уговорам друзей и правительственных эмиссаров, перепробовал вроде бы все возможные роли в своей жизни. Но в его переменчивости была своя метода, свое постоянство. Мы знаем этот темперамент: сначала безумно увлекаться, а потом бездумно оплевывать.
Его восторги после первой встречи с европейской цивилизацией продолжались до тех пор, пока хозяйка пансиона не намекнула ему: мол, если у тебя есть деньги, чтобы просиживать днями и ночами в кафе, изволь регулярно платить за квартиру. После этого вся европейская цивилизация была проклята как ничтожный мелкобуржуазный мир сантимников. Печерин подался в стан социалистов и анархистов. Пока один из анархистов не взял у него в долг последние деньги, присланные из России, и не исчез без следа, что привело Печерина, тут же разочаровавшегося в политике, в стан иезуитов. Но после нескольких месяцев изучения догматов в толковании этого ордена Печерин решил, что он окружен архилицемерами. Даже тот факт, что он в конце концов все-таки перешел в католичество, объясняется, видимо, его стремлением полностью порвать с российским (то есть православным) прошлым.
Его ужас перед возвращением в Россию почти советский. Когда его, по простоте душевной, навестил представитель российского консульства, Печерин обвинил этого добродушного чиновника в том, что тот — агент царской охранки. Печерин попал в Англию в качестве монаха, но тут же дал завлечь себя еще в одну интригу и скандал со своим собратом по ордену, в результате чего удалился в Ирландию. Как и следовало ожидать, он стал героем республиканцев, и не совсем случайно: в костер, где сжигались еретические брошюры, какой-то провокатор подбросил протестантскую Библию, что, естественно, было неправильно воспринято английскими (то есть антикатолическими) властями: Печерин (Father Pecherine) угодил в тюрьму, и про него даже распевались уличные куплеты. Видимо, при всей его строптивости, негативизме и доктринерской одержимости в нем жила инстинктивная внутренняя доброта. Его явно любили.
Но конец его грустен: он разочаровался во всем — и в социализме, и в христианстве («этом бреде из Назарета»). Он продолжал регулярно писать письма своему единственному другу в России. «Отзовись, старый мой товарищ, кроме тебя, нет у меня никого на свете», повторял он в письмах, не получая ответа. Старого друга-товарища давно не было в живых, а письма все шли.
Вернемся к еврею Блуму. Я впервые попал в Дублин переменчивым, как всё тут, летом, поскольку мой день рождения приходится на 16 июня — тот самый день, когда происходит действие в романе «Улисс». Все действие этого романа, напомню, состоит в том, что Леопольд Блум передвигается по Дублину из одного питейного заведения в другое. Вместе с толпой дублинцев и иностранцев повторил этот маршрут и я со своей женой Ниной Петровой. В пабе «Бейли» я обнаружил единственную реликвию, оставшуюся от Леопольда Блума, когда он был «вытеснен» из квартиры соотечественником его предков (предки дублинских евреев всегда из России), отцом Печериным. Эта реликвия — входная дверь. Элегический поэт Дублина Патрик Каванах водрузил эту дверь в легендарном пабе. «Отныне объявляю эту дверь открытой!» заявил он на клоунской церемонии открытия этого импровизированного музея памяти Джойса.
Во время моего второго визита в Дублин (сырым и колючим, как будто от небритости, мартом 1995 года, в День св. Патрика) я обнаружил, что дверь эта заперта: паб «Бейли» стоял заколоченным. Его скупил супермаркет «Маркс и Спенсер». Каламбурная анекдотичность имен основателей этой торговой фирмы, может быть, и случайна (это не тот Маркс и не тот Спенсер), но смешно, что в который раз дублинские места, связанные с памятью Джойса, узурпированы эмигрантами из России и Восточной Европы, откуда родом еврейская семья Маркса — Спенсера. (В начале века они придумали продавать с прилавков галантерейную мелочь по пенсу за штуку.)
Все эмигранты на свете каким-то образом связаны: это своего рода семейные (несчастливые по-своему) узы. При жизни Джойсу пришлось эмигрировать от своих соотечественников; после смерти — от своих еврейских героев. Даже в загробном мире есть свои эмигранты. Некоторые пытаются вернуться в Дублин в виде привидений.
Дублин, как и Москва, — большой вокзал. Дублин — это город, откуда уезжают. Дублин — это город, в который возвращаются: чтобы сравнить надежды собственного прошлого со своим успехом или поражением. Но есть те, кто не отличают своего поражения от победы, и тогда в Дублин переселяются окончательно: вроде монаха Владимира Печерина, обратившегося из православия в католицизм, или еще одного монаха — Джеральда Мэнли Хопкинса. Этот английский Мандельштам XIX века пришел в католицизм из англиканства и закончил свои дни в Дублине, где его чтили, но не любили (он, судя по всему, предпочитал исповедь в церкви, а не за стойкой бара). В Дублине прописаны все транзитные пассажиры небесных авиалиний. Это город внутренних эмигрантов, воображающих себя патриотами.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
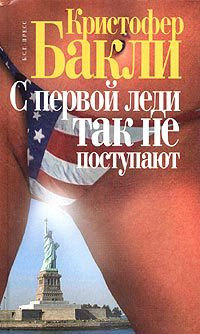




Комментарии