Как я стала киноведом - Нея Зоркая Страница 52
Как я стала киноведом - Нея Зоркая читать онлайн бесплатно
Пряжка получилась хорошо. Особенно лестница, балкон сквозь черные голые ветви и глухая, с одним подслеповатым окошком, какая-то немецкая торцовая стена дома со стороны набережной (кстати, когда ее снимали, выбежал пенсионер и закричал, что отправит нас в милицию: зачем мы снимаем задворки, не для заграницы ли).
Галя сама монтировала пленку и врезала в пейзажи Пряжки разные фрагменты зданий кинотеатров, украшения, фасады. Сюда же вклеили предметы из блоковского кабинета, которые сейчас расположены в коммунальном (вместе с Есениным) зале музея Пушкинского дома. Все это шло под стихи Ахматовой «Я пришла к поэту в гости. Ровно полдень. Воскресенье…» и под блоковские «День проходил как всегда в сумасшествии тихом…» Звукоредактор Нина подложила еще музыку Рахманинова и Скрябина. Мы немало постарались, чтобы вышла некая блоковская петербургская сюита, чтобы, подобно тому как из осколков собирают вазу, восстановить целостность, создать иллюзию сохранности. Чтобы было «настроение».
Но за кадром осталась наша Евстолия Степановна, синхронным интервью с которой тоже можно было бы закончить передачу.
Илья Авербах рассказал, что у него давно есть замысел фильма: 1919 год, Петроград, по городу идут Блок и Пяст, кругом костры, патрули, красногвардейцы; диалог — спор о судьбах России, революции, интеллигенции, словом, весь блоковский комплекс.
Хороший замысел. Мне бы нравилось назвать подобный фильм «Возмездие», непременно дать эпилог, скажем, пять маленьких новелл-эпизодов из жизни квартиры № 23 и завершить картину крупным планом доброй Евстолии Степановны, раскатывающей тесто в кабинете поэта.
* * *
На следующий день мы явились к Валентине Петровне Веригиной, частой гостье семьи Блоков и подруге Любови Дмитриевны, автору симпатичнейших мемуаров о периоде «Балаганчика» и «Незнакомки», опубликованных микро-тиражом в Записках Тартуского университета. Она — одна из совсем немногих оставшихся в живых близких Блока, тем более Блока дореволюционного. У нее в мемуарах есть важный для нас рассказ о блоковском увлечении «натпинкертоновщиной» и описание похода в кинематограф на Петербургскую сторону. Мы хотели ее попытать, но ничего более подробного про это она не рассказала, просто не помнит, и нам удалось лишь записать на магнитофон красивый (и подготовленный ею самой) текст про Асту Нильсен, произнесенный благородным старинным петербургским голосом.
Веригина живет в районе близ Смольного, в старом актерском доме, во втором дворе, типично ленинградском и мрачном, на верхнем этаже по черной лестнице. В двухкомнатной темноватой квартире все в меру ухожено и в меру запущено, давние семейные фотографии в рамах, кулич и крашеные яйца на столе. Нас встретил Н. П. Бычков — инженер-москвич, за которого выходила замуж юная смешливая актриса театра Комиссаржевской Валечка Веригина, что неоднократно упоминается в разных воспоминаниях и письмах, — бодрый, обаятельный и веселый пожилой человек с бабочкой. Сама Веригина — уютная, живая, милая, в хорошей форме. Перед нами был вариант благополучного исхода, счастливого конца людей блоковского поколения, тех, про которых Блок писал свои знаменитые строчки: «Рожденные в года глухие пути не помнят своего. Мы — дети страшных лет России…» и прочие апокалиптические свои предзнаменования. Пронесенный через революции и войны, катаклизмы и смены эпох, этот семейный союз, завязавшийся в бесконечно далеком неведении, на фоне снежных метелей, бумажных балов, масок и домино «Балаганчика», — сейчас производил впечатление глубоко трогательное и успокоительное. Между прочим, в разговоре насчет техники (в связи с нашей аппаратурой) Н. П. Бычков упомянул, что с этой техникой он имел немало дела в Сибири — можно предположить, по какому случаю он там побывал, хотя, конечно, лишь предположить.
Валентина Петровна вынула из шкатулки старые фотографии и книги с автографами Блока, Сологуба и других ее современников. Всего этого немного, но редкое, малоизвестное. Главное, что поразило нас, — лица актрис: Волоховой, Мунт, Веры Ивановой, самой Валечки Веригиной. Лица тонкие, индивидуальные, какие-то изысканные. По сравнению с физиономистикой Художественного театра они интереснее, ярче, резче, там, в Москве, больше курсисточки и скромные барышни. Эти же — поистине музы «серебряного века», вдохновительницы поэтов-символистов. У всех замечательно красивые волосы, все прекрасно и элегантно одеты. Не знаю, какие они были актрисы, но личности — безусловно. В. Ф. Комиссаржевская должна была обладать женской смелостью, чтобы окружить себя сонмом таких молодых красавиц, таких умниц на вид. Она, видимо, не боялась личного соперничества, и среда — артистичная, поэтическая — была ей важнее. Среда была не актерская, а интеллигентная.
Веригина рассказывала нам про Волохову, говорила, что та была человек замечательный и очень умный. И еще более восторженно отзывалась она о нашей гулящей Любушке — личности редкостно значительной, выдающейся. «Ее мемуары прекрасно написаны. Например, она пишет: „Дождь барабанил по крышам всех восьми террас шахматовского дома“ — и вот вам готовый образ! Александр Александрович очень уважал ее и считал необычайно талантливым человеком», — говорила Валентина Петровна, которая сейчас заканчивает воспоминания о Любови Дмитриевне: «это мой последний долг перед жизнью». Н. П. Бычков говорил о «менделеевской наследственности» Л. Д., о том, как глубоко, серьезно и даже научно она занималась всем, за что бралась. Вообще «Любушка» неизбежно возникала в каждом разговоре нашей блоковской поездки, и ее образ меня совсем заинтриговал. Но это отдельная и большая тема, хорошо бы дошли до нее руки. Здесь, я знаю, скрыто нечто важное, и Любовь Дмитриевна должна войти в некую портретную галерею, если таковой суждено будет составиться. Еще мы думали и много говорили с Галей о том, что Александру Александровичу его Прекрасные дамы, Фаины и Снежные маски здорово махали.
Так писала А. А. Ахматова в «Поэме без героя» уже в наши дни. А в 1914-м:
Да что там! Разве одна Анна Андреевна писала! И притом Блок горел постоянно, горел с Любушкой, которая, как теперь точно установлено, любила не его, а пьянчужку (и, подбивая итог своей жизни, занесла замужество с Блоком в рубрику «ошибок»), горел и с Волоховой, соглашавшейся тянуть по поэтическим метелям свой черный шлейф, — но увы! не больше. Здесь, конечно, имеется какая-то тайна и нечто роковое.
* * *
В эту поездку я, к стыду своему впервые, узнала, что Л. А. Дельмас, Кармен, жива, хотя догадаться об этом и раньше было нетрудно, так как во всех указателях имен давался только год ее рождения, 1884-й.
Сведения, которые мы успели собрать, были неутешительны. Говорили: Дельмас — сумасшедшая барыня, в маразме, живет в полном запустении, никого не пускает и к тому же обижена публикацией дневников и записных книжек, по которым получается, что она преследовала Блока, донимала его телефонными звонками, а он прятался, потому о Блоке ей и заикнуться нельзя. Хранительница блоковского фонда в Пушкинском доме научила нас купить конфет, явиться к ней с какими-нибудь нейтральными вопросами и быть готовыми ко всему.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.


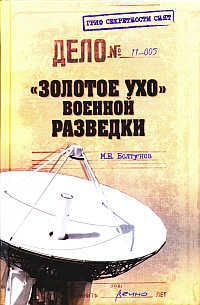


Комментарии