Лев Толстой - Владимир Туниманов Страница 47
Лев Толстой - Владимир Туниманов читать онлайн бесплатно
Он уверял «бабушку», что напрасно она его упрекает за отсутствие «християнского чувства». Ведь в рассказе процитирован 104-й псалом Давида, славящего Бога — Промыслителя жизни: мятутся те, от кого спрятан лик Его, и умирают, когда отнят их дух, и возвращаются в персть свою, но «пошлешь дух твой — созидаются, и Ты обновляешь лице земли». Однако укоры Александры Андреевны были вполне обоснованными, потому что мудрость Давида и пафос толстовского рассказа не совпадают. Кончина, обновление — для старика Федора, это, в отличие от барыни, цепляющейся за призрачные надежды, не повод для страха и размышления. Федор знает закон, обязательный для всех, и принимает его как вещь совершенно естественную. Александрин написала, что он просто une brute, а Толстой возразил: да, животное, но чем же это плохо, раз у него «гармония со всем миром, а не такой разлад, как у барыни»?
Он, конечно, и сам хотел для себя такой гармонии — когда правда сопрягалась с красотой. Каким-то неясным образом она должна была дополниться любовью и спокойствием, которые дарует вера, однако единства не получалось: два эти чувства, писал он, в нем жили, как кошка с собакой, обитающие в одном чулане. На самом деле было не столько сосуществование, сколько конфликт. И этот конфликт напомнит о себе еще много раз.
«Семейное счастие», сюжет которого Толстой начал обдумывать сразу по возвращении из-за границы, тоже отмечено конфликтом двух идей, почти отрицающих одна другую. В нем была поэзия любовного союза и рядом с нею — страх, даже отвращение, вызываемые реальностью брака. Валерия Арсеньева незримо присутствует в этой повести, написанной от лица молодой замужней дамы. Она, правда, не старшая, а младшая из сестер, которые потеряли отца, но герой ее романа тоже появляется в осиротевшем доме как опекун, и тоже намного ее старше, и подвержен знакомым мыслям о том, что любовь для него кончена, остаются «только обязанности доживанья». Как и знакомым грезам о тихой деревенской жизни, где будут труд, природа, музыка и возможность «делать добро людям, которым так легко делать добро».
Маша гораздо больше соответствует его идеалу, чем Валерия даже в их лучшие минуты со Львом Николаевичем. Героиня повести, поняв, что суженый тяготится ее кокетством, перестает заботиться о нарядах и прическах, хотя ей и не сразу удается покончить с «кокетством простоты». Ей очень хочется «выказывать перед ним лучшие стороны моей души», и она старательно постигает самую трудную науку — жить для другого. И в начале их брака Маша в самом деле живет только для того, кто для нее «самый прекрасный, непогрешимый человек в мире», равно как «первой и прекраснейшею женщиной в мире» видит свою жену Сергей Михайлович.
От своей несостоявшейся женитьбы Толстой ожидал такой же идиллии абсолютного понимания и взаимного полного отказа от эгоистических побуждений. Женитьба расстроилась, кажется, только из-за легкомыслия Валерии, однако, прочитав «Семейное счастие», понимаешь, что флирт с музыкантом и увлечение балами были лишь поводом для разрыва. А по существу, в Толстом жил инстинктивный страх перед этим решительным шагом, и не потому, что он опасался за свою свободу. Страшил его тот оттенок пошлости, который — он это предчувствовал и об этом написал свою повесть — непременно появляется, когда проходит время поэзии и нежности, и наступают будни, и незаметно, из мелочей возникает отчужденность, и становится смешно вспоминать, сколько восторгов было пережито вместе. Когда, каким образом все это произошло с ними, герои толстовской повести не могут сказать, но прожить «весь вздор жизни», сохранив в себе ощущение ее полноты, а стало быть, и нестоящего счастья, оказалось выше их сил — да и Дано ли это хоть кому-нибудь? Сбылось все, чего они хотели; «неясные, сливающиеся мечты стали действительностию; а действительность стала тяжелою, трудною и безрадостною жизнию», — вот истинный сюжет «Семейного счастия». Он совсем новый для литературы, во всяком случае, для русской, хотя в первых черновиках это произведение называлось «Повести Лизы Белкиной», чем вроде бы отсылало к Пушкину. Но если замысел изначально и правда имел сходство с какой-то из «Повестей Белкина», то ассоциации, которые способен пробудить законченный вариант, уже совершенно другие. Чеховские.
Толстой, конечно, не предполагал, что предугадал — в общих контурах — собственный семейный «сюжет». Он знал другое: затронуто многое, что для него имело слишком интимный смысл, и не получается как-то избежать чрезмерной откровенности. Может быть, из-за этого повесть ему казалась ужасной, когда он читал корректуры. «Мерзкое сочинение, — пишет он Боткину. — …Я теперь похоронен и как писатель и как человек!» Либерал и сибарит Боткин не понял этих терзаний, но о повести тоже отозвался скептически, хотя совершенно по иной причине: какой «противный пуританизм». Подразумевалась сцена, когда героиня едва не становится жертвой маркиза-итальянца с его грубым и красивым ртом. Боткина, видимо, больше бы устроило, если бы появился эпизод в духе французских гривуазных романов. Без него выходило «и холодно, и скучно», хотя талант виден на каждой странице.
Толстого такие оценки должны были задеть, однако он не стал вступать в полемику и вообще сделал вид, что о «Семейном счастии» забыл, словно он никогда его и не писал. Повесть он отдал в «Русский вестник», журнал Михаила Каткова, который занимал позиции, во всем антагонистичные «Современнику», и в некрасовской редакции это расценили как определенный жест. Толстому, впрочем, действительно стала безразлична все более ожесточенная литературная война — он жил теперь другими, не писательскими интересами. Получив от Каткова за свою повесть полторы тысячи, Толстой их тут же проиграл на китайском бильярде какому-то офицеру и нисколько не пожалел, что деньги ушли так глупо.
После «Семейного счастия» Толстой три с половиной года ничего не публиковал. «Литературные занятия я, кажется, окончательно бросил… Все это время я то пытался опять писать, то старался заткнуть чем-нибудь пустоту, которую оставило во мне это отречение: то охотой, то светом, то даже наукой… Но теперь уж жизнь пошла ровно и полно без нее», — писал он Борису Чичерину осенью 1859 года, но на самом деле «без нее», без литературы, жизнь для Толстого не могла стать полной. Рукопись «кавказского романа», который мечтал заполучить для «Современника» Некрасов, много раз извлекалась из письменного стола в течение 1858 года, однако работа шла очень туго и в конце того года была оставлена — он считал, что навсегда. Молчание Толстого начали воспринимать кто с тревогой, а кто и как вызов. Тургенев, прослышавший, что Толстой увлекся какими-то лесными посадками и забросил литературу, писал Анненкову: «Боюсь… как бы он этими прыжками не вывихнул хребта своему таланту». Из Петербурга пришло полное беспокойства письмо от Гончарова: «…от Вас ждут многого, между прочим Кавказского романа… Все здесь, Вас недостает, и в каждом собрании Ваше имя произносится, как на перекличке».
Но на петербургские литературные переклички Толстой не являлся, а в Москве побывал только на одной, когда 4 февраля 1859 произносил речь по случаю его избрания членом Общества любителей российской словесности. Это Общество состояло преимущественно из славянофилов, председательствовал в нем Хомяков, и речь Толстого должна была ему понравиться утверждением, что увлечение повестями на злобу дня было, разумеется, необходимо и благородно, когда время сделало политические интересы самыми главными, однако, как всякое одностороннее увлечение, оно не могло быть длительным. «Литература народа, — говорил Толстой, — есть полное, всестороннее сознание его, в котором одинаково должны отразиться как народная любовь к добру и правде, так и народное созерцание красоты в известную пору развития». Но даже Хомякова не устроило столь категоричное несогласие признать «политическую литературу» законной частью «другой литературы, отражающей в себе вечные, общечеловеческие интересы». Он принялся уверять Толстого, что и «Три смерти» отчасти написаны пером обличителя: умирает от чахотки старый ямщик, а товарищи равнодушны к его страданиям, — так разве в этой картине «вы не обличили какой-нибудь общественной болезни»? «Вы были и вы будете невольно обличителем».
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.



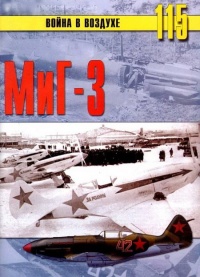
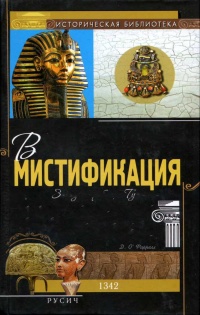
Комментарии